» Неодолимые (окончание)
Она могла уйти к сестре в город, но не пошла. Дом ее здесь был. И она здесь будет. Пока можно еще быть.
Солдаты иногда заглядывали к ней последние дни. Воды просили, некоторых кормила. Что она могла? Вдова рыбака Миежко Вуйцика, Эла, жила, как умела. Одна, на берегу Нарева, сама выучилась удить рыбу и ловить раков, чем немало удивляла торговок в Остроленке, которым отдавала добычу за гроши. Таких уловов, какие привозил в своей лодке Миежко, у нее никогда не бывало. Но много ли нужно женщине, оставшейся без семьи? Концы с концами сводила.
Потом была война, которая не трогала ее, хотя сестра и сестрин муж много говорили о том, чем полны были головы и сердца людей вокруг, разделяя их воодушевление. Эла была не очень умной. Эла не умела понять того, что теперь считалось великим. Эла удила рыбу.
Потом солдаты заняли окрестности Нарева на подступах к городу. Дом ее чуть в стороне был. Солдаты курей растащили, за молоком ходили к ней. Иногда сети брали в старом домике, где Миежко лодку держал. Эла молчала. Пусть. Потом в доме появились двое офицеров. Видать, важных очень. Она про них только то и знала, что один – буйная голова, смел не по делу и сыпет проклятиями. Его она не боялась. Боялась второго. Тот был злой, холодный. И не говорил ни о свободе, ни о Польше, ни о русских. Он все больше молчал. И она знала – этот не просто верит, этот живет тем, о чем другие говорят. Этим и еще ненавистью. Эла почему-то сразу решила, что ненавидит он то, что внутри, а не то, что снаружи.
Уже утром, когда он оставил ее одну в рыбачьем домике, она сама пыталась научиться ненавидеть. Но не умела этого. Не могла. Потому что ненависти в ней не было. Воздух звенел тишиной. И в этом звоне было такое напряжение, что она чувствовала его руками, ногами, всем телом, которое не считала поруганным, но совершенно больным, будто принявшим чужую боль.
Вернулась в свой дом, переоделась в самое лучшее свое платье, в каком, бывало, ходила в город. Миежко позволил пошить его, когда сестру замуж брали. Из жемчужно-серого сукна, с белыми кружевными манжетами. Теперь оно было ей велико. Она совсем девочкой в нем казалась, и от этого щипало в глазах – жаль было себя. Заплела косу, скрутила узлом на затылке. Повязала платок самый красивый, цветастый, с причудливым арабским узором.
Когда она прибирала вчерашнее со стола, все еще было тихо, и она избегала смотреть в окошко – туда, где по ту сторону Нарева должны были встретиться русские войска и войска польские. И избегала думать о красивом золотоволосом пане, с которым соединилась навеки в эту ночь – связью нерушимой, священной, не до конца еще осознанной. И едва ли возможной для осознания.
Потом захотела пить. Взяла крынку, запустила в чан с водой. И тут же выронила ее, залив юбку и ноги. Кажется, тогда и услышала – началось. Дико глянула в окно, тут же запретила себе смотреть. Опустила глаза к полу – удивительно… крынка была целой, не разбилась. Подняла ее. Набрала воды и стала жадно пить, чувствуя, как вода стекает по шее, теперь уже замочив кружевной воротничок. И вздрагивая каждый раз, когда шум за окном становился особенно громким. Сделала несколько шагов к столу и села на скамейку, сложив руки на коленях. Не молилась. Молиться ей казалось неправильным. Молятся – исполненные благости. Отчаявшиеся – те же грешники. Отчаявшиеся могут молить не о том, желать зла, просить кары.
Сидела ровная, как доска. Глядела перед собой. В глазах чернота была необъятная. Губы снова пересохли, будто только что не пила. А потом вдруг тихо прошептала, чувствуя, как мучительно ноет грудь:
- Страшно тебе? Страшно.
Вечером хата была все еще цела. И суждено ей простоять долго. На жизнь бы хватило.
Эла нашла себя у окна. Как ни зарекалась, а пришла сюда, к нему. Глядела на закат. И на тени, двигающиеся у реки. Знала точно – битва проиграна. Иначе совсем другим был бы воздух. И совсем другого цвета было бы небо. И в ней самой все было бы другое. Горечь подкатила к горлу. И во рту стало совсем горько. В доме стоял запах дыма, что проносился над рекой с ветром.
Она рассердилась, накинула шаль и пошла на двор. Скорыми шагами пересекла его и направилась к речке, стараясь не смотреть в сторону видневшегося даже и в темноте моста, по которому отступали поляки. Почему-то думалось о том, что, покуда они отступают, она все же идет вперед.
Ей было то жарко, и она стягивала шаль с плеч, то холодно, и она зябко куталась. Здесь, на этом клочке земли, где стояли ее дом и рыбацкая хижина, тел не было. Эла знала, что побоище осталось ближе к мосту. И только кое-где земля была изрыта снарядами, что падали по эту сторону Нарева. Дошла до хижины и замерла, спрятавшись за угол, испуганная шорохом – в камыше, почти у кромки воды, один солдат под руки тащил другого прямиком к ней.
Свой? Чужой? Кто теперь чужой, когда они сплелись в единое целое кровавым месивом тел? Эла внимательно следила за движениями того, кто тащил. Он старался не создавать шуму. Но вместе с тем и не особенно скрывался. Высокий камыш наверняка оставлял порезы на его лице и на его руках без перчаток, но он упорно волочил тело раненого. Наконец, солдат выбрался на берег и спешно задвигался к хижине. Эла молча вышла из своего убежища и приблизилась к нему. Он, расслышав шум, на мгновение замер и обернулся. Они рассматривали друг друга некоторое время. А потом все так же, молча, Эла обошла его с другой стороны и взяла раненого за ноги. Вместе они занесли тело в хижину и устроили в лодке.
- Нужно лекаря, - шепнул солдат.
- Как смогу, приведу из города, - ответила она.
- Когда очнется, передашь, что... Впрочем, ничего не говори, не нужно.
- Как скажете, пане.
- Спрячешь его, пока не поправится?
- Как смогу…
Незнакомец быстро кивнул и пошел прочь, пробираться к своей армии – по камышу, по воде. Эла не глядела ему вслед. Она всматривалась в грязное, окровавленное, почерневшее от дыма и земли лицо. И не верила, что еще только прошлой ночью, целую жизнь назад, в этой самой лодке человек с этим лицом сделал ее своей навсегда.
Потом она спохватилась, бросилась в дом – за водой, за чистыми тряпками. Упала, угодив ногой в рытвину в высокой траве – от снаряда – испачкала платье, вытерла грязь с лица рукавом. Вдруг поняла, что плачет. А с чего бы ей плакать? И отчего бы не плакать? Кое-как добралась. Поставила на печь воду греться. Нашла несколько сорочек Миежко. Она вываривала их до белизны через год после его смерти – всего-то месяц назад. Тогда же она и сняла траур. Лишь затем, чтобы теперь снова его надеть, если ее офицер умрет.
Потом стала рвать сорочки на полосы ткани. Ткань поддавалась тяжело. Полотно было добротным – не солгал лавочник. После достала бутыль с травяной настойкой – тоже год простояло. Миежко варил. Миежко настаивал. Вспомнила важное. Достала иглу. Раскалила ее на огне. Ей никогда не приходилось шить живую плоть. Она только рыбу нанизывала на нить, чтобы высушить. Собрала все в передник, отнесла в хижину. Вернулась обратно, за водой. Потом за одеялом, за тюфяком, за чем-то еще. Эта ночь запомнилась ей бесконечным бегом туда и обратно. От хижины к хате. От хаты к хижине.
Сначала промыла рану над ухом. Та не казалась такой уж страшной. Страшным было серое лицо, измазанное его собственной кровью. Но и эти потеки она осторожно смыла, отчего-то так глупо восхищаясь чертами, искаженными теперь мукой, но такими тонкими и словно бы беззащитными. Потом обмотала его голову полоской ткани и осторожно устроила ее на тюфяке с соломой. Офицер был в беспамятстве. И это к лучшему. Муки принимал теперь страшные. Резала мундир большим ножом, каким разделывала рыбу когда-то. Он давно лежал без дела. И вот пригодился, где не ждали. Рванула рубашку, обнажая плечо, почти разрубленное саблей. Тихонько всхлипнула, прижав ладони к лицу. Но тут же одернула их. Сцепила зубы. И все то же. Промыть, обработать настойкой, сшить края, при каждом проколе замирая сердцем. Примотать тряпицу, как получится. Кровь все еще сочилась, пропитывая повязку. Снова всхлипнула. Что она могла? Что могла?
В дом вернулась лишь на рассвете. Войско польское отступило к Варшаве, оставив ее здесь одну. Ее и офицера, чьего имени она даже не помнила. Наутро доктора во всей Остроленке было не сыскать – все оказались заняты. И Эла смирилась с тем, что никто не поможет ей.
Оказавшись дома, во дворе нашла русского полковника, вышагивающего перед крыльцом, расквартированного в ее хату. Он был добр с ней, она сразу ему понравилась. Она угождала, как умела. Ночевать уходила в хижину у Нарева, как при своих. Отговаривалась тем, что несподручно жить в доме с мужчиной. Он только усмехался в усы, отпускал сальные шуточки на русском, который она понимала. Она глупо улыбалась и щебетала на польском, что пан очень добр. И все бегала в рыбацкую хижину, где так и прятала своего офицера – чудеса случаются, сюда никто-никто не заглядывал, кроме нее. На третий вечер полковник велел ей остаться в доме. Долго вспоминал семью, чьей ласки лишен. Просил ужинать с ним, вино пить с ним. И она пила. Когда он целовал ее, щекоча усами, она терпела и, кажется, даже, смеясь, говорила, что ей щекотно. Когда он укладывал ее в постель, она почти ни о чем не думала. Только потом тихо скулила на кухне, приготавливая завтрак, и не понимая, откуда взялась эта смертельная боль. И отчего эта боль не убивает, коли она смертельная.
Полковник уехал на пятый день, так и не заглянув в хижину. На шестой день поляк пришел в себя.
Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę.
- Я думала, пан и глаз не откроет, и в небо не глянет, - услышал он над собой голос, который только что пел. Он сперва думал, что это сестра поет, потом понял: нет, не сестра. У Юлии голос был сильнее, глубже. Этот звучал тонко, с надрывом. Будто не голос вел песню, а песня вела голос. Потом размежил веки и тут же прикрыл их, но так, чтобы сквозь ресницы пробивался свет.
- Словно бы здесь можно увидеть небо, - шепнул Адам, чувствуя, что уж его-то голос точно ему не принадлежит. Закашлялся и тут же задохнулся. Вот теперь его опалила боль, которой не было, которой все это время не чувствовал. Все было больно. Голова, шея, руки, спина, ноги. Горела кожа, и сам он как будто вышел из пламени.
- Небо везде увидеть можно.
В ответ он глухо застонал. Никакого неба он не хотел.
В следующее мгновение у его губ была чашка с водой.
- Помаленьку, пане, помаленьку, - шептала женщина, покуда он пил. Да он и не мог бы залпом – каждое движение, даже при глотании, причиняло все ту же жаркую боль. Когда напился, убрал голову назад, на тюфяк. Утирать губы от воды сил уже не было.
- Как тебя зовут? – глупо спросил он.
- Эла. Эла, вдова рыбака Миежко Вуйцика.
- Как умер твой муж?
- Утонул в реке.
Потом Адам уснул. И, кажется, спал очень долго. Теперь уже именно спал, а не бродил внутри самого себя, где было черно и вязко. Проснулся на другой только день, поражаясь тому, как стало тихо. Никаких голосов, никакого шума орудий. Даже не пел никто. Думать он не мог, думать было страшно, иначе стал бы спрашивать себя самого, как оказался здесь.
Но мысли стали наслаиваться сами.
Он точно помнил, что должен был умереть. Когда это было – день назад? Месяц назад? Цель его жизни была в том, чтобы принять смерть. За то, чтобы все было не зря.
Потом он стал спрашивать Элу, где теперь поляки? Где теперь русские? Что теперь в Варшаве? Глупая женщина не знала ничего или не желала знать. День за днем она промывала его рану, перевязывала ее, носила ему рыбный бульон, извиняясь за то, что ничего другого у нее теперь нет. Она снова опускала глаза, и ему делалось неловко при мысли, что именно она выхаживает его.
В какой-то из дней он проснулся от едкого запаха дыма, сменившего теперь уже привычный сладковатый запах смерти, доносившийся с побоища и забивавший речной воздух. Ему отчего-то казалось, что от этого он скорее задохнется, чем от разлагавшихся трупов у реки. Он силился встать, но это казалось слишком сложным в его нынешнем состоянии. Рука не слушалась совсем, причиняя только боль.
Она влетела к нему оживленная и непривычно радостная, прижимавшая край передника к носу. Он поразился на мгновение цвету ее глаз – оказалось, не такие уж те и черные. В них играли оттенки коричневого, золотистого и даже зеленого. Волосы ее были убраны в платок, и она казалась еще сильнее похудевшей.
- Мужичье из города согнали, - выдохнула Эла. – Убитых жгут.
- А раненых?
- Кого-то везут в повозках. Да разве всех разберешь? Река в город течет, мертвыми отравлена. Вот и жгут, хоть шевелятся, хоть нет.
- Ты как меня нашла? – спросил он. Впервые. Они не заговаривали о том, прежнем. Все было очень просто. Она лечила его. А он будто не лежал в той самой лодке, в которой они соединились целую жизнь назад. Или тысячи жизней, сжигаемых теперь у реки.
- Офицер принес. Здесь оставил, - она присела рядом и вгляделась в его лицо – она очень редко так открыто смотрела на него. А потом, будто решившись, вздохнула и сказала: - Сюда кто угодно прийти может. Не запрешь. Покуда дым, и не видно ничего, лучше бы в хату перейти. Вам удобней станет. И мне ходить за вами, пане, полегче.
Уверенный в том, что даже не поднимется из лодки, Адам преодолел, опираясь на тонкую женскую спину, расстояние в сто пятьдесят саженей, и едва не упал на крыльце. Она удержала его, она почти взвалила его на себя. Вместе они вошли в комнатку. И, оказавшись в постели, он снова заснул, проспав больше суток. Запах дыма окутал его всего, и представлялось ему, что в этом самом дыму на страшном пламени сгорает он сам. Пока он спал, Эла промывала его рану на плече, из которой стала сочиться кровь. А потом снова варила даже ей самой опротивевшую уху. И думала, что едва станет легче, пойдет в город – коровы у нее теперь не было. Корову увели жолнеры при отступлении. А молоко панычу полезно.
Липницкий поправлялся медленно, тяжело. Его лихорадило, подчас начинал бредить. Потом ненадолго становилось лучше, и он снова узнавал свою хозяйку. Просил воды, почти не ел. В город она так и не ходила – ей отчего-то страшно стало, вдруг он умрет, когда ее не будет. Дикой была мысль о том, что кто-то может умереть в одиночестве. И еще в ней неотвратимо крепла нелепая уверенность – она отпугнет его смерть, если будет рядом. Спала Эла на кухне. Вставала рано, бежала на реку, проверять сети. Возвращалась иногда с пустыми руками, иногда с несколькими рыбешками. Чистила, варила. Муки немного еще было, пекла какие-то коржи. Потом скребла посуду до блеска, стирала белье. Добралась до его мундира, стала чинить. Зачем – не знала. В этом мундире ходить пану было теперь нельзя, когда русские повсюду. За мелкой работой забывала о своем страхе и забывала о себе.
Так прошел июнь. К концу его смерть отступила. Липницкий стал приподниматься на кровати самостоятельно и немного есть, хотя желудок не всегда принимал пищу. Эла подставляла таз, застирывала одеяла и простыни. Менять их было трудно, но они приспособились. Он отодвигался на край постели, к стене, она выдергивала простыню из-под него. Потом так же стелила свежую. Мыла его она же – сам мыться не мог. Он полностью принадлежал ей. И полностью от нее зависел. Никто из них не заговаривал о том, что рука его вряд ли станет служить ему, как раньше, она была чуть вывернута и слушалась плохо – кости в плече срастались неправильно. Ломать их заново было невозможно. Вызвать доктора – теперь, когда вокруг были русские – тоже. Адам ей не позволял. Он не за себя боялся. Он боялся за нее. Липницкий был единственным сыном одного из нынешних правителей Польши, пока Варшава все еще оборонялась. И вдову рыбака вздернули бы без разбирательств за то, что она прятала его в своем доме.
По мере того, как к нему возвращались силы, она становилась все тише, и однажды он увидел прежний, как до всего, взгляд, опущенный к земле, будто она не умела прислуживать офицеру. Это тревожило его. Они мало говорили, но из того, что он знал о ней, самым важным казалось, что она не испытывает страха к нему. Однажды во сне он услышал ее тихий вскрик – тот самый, когда она поняла, зачем он преследовал ее до рыбацкой хижины в ту, последнюю, ночь. И с того времени этот вскрик звучал в нем всякий раз, когда она оставляла его.
Этот вскрик заменил ему все. Он перестал думать, что стало с ним, с Домбровским, с армией, где теперь русские. Ничего этого он не пытался выяснить. Он существовал в мире, где были только четыре стены, крыша и женщина, не поднимавшая глаз и отвечающая односложно, если он осмеливался что-то спросить. Той, что говорила о небе в первую минуту, когда он пришел в себя, будто уже не было. Разорвать этого он не мог.
В июле он стал вставать и ходить по комнате, добираясь до окна, выходившего на остатки от кострища, в котором горели тела. Когда увидел его впервые, есть не мог два дня. То, что удавалось проглотить, тут же отвергалось желудком. Теперь он уже подолгу смотрел на выгоревшую землю, раскинувшуюся вдоль реки по обе ее стороны. Его уже почти не мутило. Он думал о том, что и это тоже – его страна. И он сам приложил к тому руку.
Эла начала оставлять его в доме одного и отправлялась в город. Уходила с рыбой для торговок. Возвращалась то с молоком, то с яйцами. В часы ее отсутствия Адам выбирался на двор. И каждый день пытался пройти все дальше. Голова кружилась, не переставая, страшно болела рана на плече. Но и оставаться в хате он больше не мог. Он не думал о том, что будет. Важно было просто идти.
Однажды, в середине июля, Липницкий узнал две занимательные вещи про свою хозяйку.
Он просил принести ему хоть какую-нибудь газету, хоть старую. «Ежи не слишком-то любит читать», - тихо отвечала она, говоря о муже своей сестры. Однако газету принесла и очень осторожно, словно боялась измять или испачкать страницы, подала ему. Он почему-то сразу понял – читать Эла Вуйцик не умела.
Вторым же открытием стало то, что она, оказывается, больше всего на свете любила яблоки. Приносила их несколько, с наслаждением съедала одно, и он удивлялся, как так можно их есть, что слышно из другой комнаты? Из других пекла рогали. Потом оживление спадало, и она снова ходила, опустив глаза, а он гадал – что делается в ее сердце в такие минуты?
И не знал, что Эла боялась того дня и часа, когда он поправится и оставит ее одну. Особенно теперь, когда русские были на подступах к Варшаве. А она не знала, как будет жить без него. Пусть бы навеки остался беспомощным калекой – таким он принадлежал бы только ей.
В августе дни стали жаркими. Особой тягучей жарой, от которой невозможно было ни вдохнуть, ни выдохнуть, и сам воздух был накален так, что казался осязаемым. Когда ей становилось особенно плохо, ходила на реку – купаться. Возвращалась посвежевшей и похорошевшей. Он стал рассматривать ее так, как раньше не рассматривал. И удивлялся тому, что не видел ее прежде. А то, что видел, было незначительным по своей сути. Когда она поворачивала к нему свою голову, пятно на шее, под ухом, немного меняло форму и вытягивалось. А изгиб бровей, если она хмурилась, не делался более резким. У нее чудесным образом хмурились только глаза, становясь чернее, пронзительнее. Она была в вечном движении, почти не останавливаясь. Даже когда замирала на первый взгляд – что-то в ней менялось. Кисть руки меняла положение, уголок тонких губ чуть подрагивал, завитки волос на затылке, которые никак не желали вплетаться в косу, скользили по коже.
Однажды Адам сказал ей о своем твердом намерении дойти до камыша у рыбацкой хижины, чтобы освежиться там в воде. Он не ждал ее возражений. Их и не было. Она только кивнула и вернулась к своему шитью, показывая всем своим видом, что идти с ним она не будет. Он только улыбнулся и впервые за все время покинул дом у нее на глазах, даже не подозревая, что Эла про его походы на двор все знает. Она все про него знала. Едва он вышел, оставила так и не сшитые лоскуты, что должны были стать рубашечкой для нерожденного племянника, и бросилась к скамье у окошка, чтобы видеть, как Адам идет. Сердце ее стучало ровно, спокойно, отдаваясь гулкими ударами во всем теле. Ей отчего-то подумалось, что однажды вот так он выйдет наружу и уже никогда не войдет обратно. Что это будет, она тоже знала. По щекам ее покатились слезы, она вытирала их краем рукава, чувствуя, как грубый лен царапает кожу. Ей вдруг сделалось смешно – привык ли он к такому полотну? Ведь ходил когда-то в сорочках из тончайшего батиста, какого она даже наощупь не знает. И видала лишь издали – на богатых горожанах.
- Ну и чем накормишь, щебетунья? – донесся до нее голос с порога.
Эла вздрогнула всем телом и резко обернулась. На пороге стоял сестрин муж.
Как испуганная птица, вскочила она на ноги, оправляя юбку.
- Сейчас соберу чего-нибудь, - пролепетала она.
Ежи она боялась. С первого дня, как увидела. Он был всегда весел, шумен, говорил громким голосом и подмигивал ей, словно было что-то, что только они вдвоем и знали. Он был очень высок, очень худ, жилист и силен. Лицо его никто не назвал бы красивым, но было в нем что-то, отчего девки млели. Особенно, когда глядел он на них так, как глядел в эту минуту. Но этого-то взгляда и боялась Эла. При Миежко он казался смирным, сестер не обижал. А после похорон, покуда жена была в тягости, стал наведываться в дом вдовы. Недолго. Барба вскоре разродилась, и он оставил Элу в покое. Того, что он вскоре снова станет ходить, рыбачка ждала и страшилась – сестра опять ждала ребенка.
- Оставь, - ответил Ежи. Он глядел на нее, как коршун глядит на жертву. Она же не смела двигаться под его взглядом. Он рассматривал ее внимательно, оценивающе, будто диковинную зверушку, а потом сказал: – Расцвела. Тебе бы замуж.
- Не берут, - чуть приоткрыв губы, шепнула она.
- Я сестру твою, мужичку, взял, - отмахнулся Ежи. – И на тебя бы кто нашелся. Только жалко тебя отдавать, такую ладную.
Эла бросила беспомощный взгляд на окно и поймала себя на мысли, что вовсе не Ежи она боится. Но боится того, что придет Адам с реки и все увидит.
- Я собиралась в город, отвезешь меня? – быстро спросила она.
- Отвезу после. Знаешь ведь, зачем пришел – измаялся весь.
Этой связи Эла стыдилась. И не оттого, что, пусть и поневоле, но лгала сестре, а оттого, что мерзко ей было от себя – он брал ее будто вещь, которая не имела значения. Противостоять ему она не умела. И никому не умела. Всякий раз ее тошнило от одной мысли, что он велит ей идти раздеваться и стелить свежую простыню. И пойдет ведь. А потом, чувствуя на себе его руки, чувствуя, как он бьется в ней, она станет думать лишь о том, как бы не стошнило, пока он еще в ее доме. Прежде она думала, что любит Миежко. Оказалось – не любовь. Оказалось, жалела его. Прикосновения его из памяти стерлись, оставляя только то, что, когда он прижимался к ней, она, поглаживая его по волосам и по плечам, испытывала нежность и жалость. Все прочее вытеснило отвращение от рук и поцелуев сестриного мужа.
- Что Барба? – тихо произнесла она, словно оттягивая то мгновение, когда нужно будет идти в комнату.
- Передала тебе платок. Купила его да сама не носит. После покажу.
- Уходи, - выдохнула Эла.
Ежи изумленно приподнял брови.
- Уходи, ничего не будет.
- У щебетуньи новая песня?
- Уходи говорю!
Он коротко рассмеялся и шагнул к ней, схватил за плечи и легко встряхнул.
- Раззадорить меня хочешь, мужичка? – шепнул ей в лицо, и она учуяла запах вина. – Так я задорный, дальше некуда.
Она только всхлипнула и мотнула головой. Ежи снова засмеялся, но смех оборвал и резко поцеловал в губы. Язык его скользил по ее зубам, но она не пускала его, напряглась всем телом, закрыла глаза. Знала, что сил нет, что окажется под ним скоро, и этак он станет вымещать на ней злобу. Но целовать его, принадлежать ему не могла.
Все закончилось резко. В одно мгновение. Его оторвали от нее. Она открыла глаза. И увидела, как Ежи оседает на пол. Пан Липницкий возвышался над ним, глядел дикими, злыми глазами, какие были у него в мае, о выражении которых она уже почти совсем забыла. Дышал гневно. И был так бледен, что она замерла – как же должна болеть его рана!
- Ох, ты и дура, - говорил потом Ежи, усаживаясь в свою повозку. – Придут его забирать – тебе куда деться? И мы ничем не поможем.
В том, что сам Ежи не выдаст – не сомневалась. Русских он ненавидел почти так же сильно, как своего отца, женившего его, шляхтича, на мужичке, которая понесла от него. Всей семье и всему городу на смех.
Эла вернулась в дом. Адам лежал в постели, закрыв глаза, и она решила сделать вид, будто он спит. Он не спал. И тоже делал вид, зная, что оба разыгрывают странный спектакль.
Молчали они до самого вечера. Ужиная, на нее глаз не поднимал. Совсем как она. Потом он вернулся в постель. Эла вымыла миски. Спустилась в погреб – остатки ужина снесла. Переоделась, устроилась, было, на топчане в кухне, где обыкновенно спала все последние недели. А потом не выдержала, опустила босые ноги на пол и прошлепала к нему.
Ни слова не говоря, стащила сорочку через голову, откинула с него одеяло, легла рядом, прижалась всем телом. И, чувствуя, как он напрягся от ее прикосновений, коснулась шеи его поцелуем. Потом все сделала сама. Он лежал под ней, восхищаясь ее прелестной тяжестью, ее движениями, порывистыми, отчаянными. Смотрел в лицо ее, искаженное страстью. Здоровой рукой мял маленькие груди. Она то и дело припадала с поцелуями к его сухому рту узкими влажными губами. Словно бы впервые заставляя поверить в то, что он жив, что он будет жить, что в двадцать четыре года нельзя умирать. И что есть большее, чем свобода. Потом она долго еще лежала на его груди, глядя на страшный шрам с неровным швом. Он все еще был в ней, хотя страсть схлынула, оставив по себе изнеможение. И все той же здоровой рукой гладил ее тонкую белую спину. Он слышал, что она тихо плачет, и боялся спрашивать отчего. А потом она повернула к нему голову, скользнув растрепавшейся косой по его больной руке, и тихо сказала:
- Я теперь к тебе всегда приходить буду.
Странное чувство, до этого момента ему неизвестное, подкатило к горлу странным комком, будто бы рыданием, и он ответил севшим голосом:
- Ты просто не уходи.
Жизнь они теперь вели тихую, спокойную, говорили по-прежнему мало и о чем-то неважном. Она приносила ему газеты из города и пересказывала, что слышала сама. О том, что в Варшаве вспыхнуло восстание, стало известно только к концу августа, до того времени они пребывали в странном, почти совсем безмятежном состоянии, будто ничего вокруг и не было, несмотря на известия о поражениях польской армии, следовавших одно за другим.
Теперь уже Адам стал проверять ее сети и удить рыбу – еще мальчишкой он любил рыбалку в то далекое время, когда Липняки были единственным домом, который он знал. Эле стало немного полегче, и это радовало его так, как не радовал призыв «Братья, час свободы пробил!», произнесенный Высоцким в ночь начала их войны.
Огорода у нее больше не было – он был весь изрыт снарядами, и все, что могло вырасти, было безнадежно побито. Что-то она еще находила в земле, что-то привозила от сестры, но все-таки овощи приходилось большей частью покупать. Зима могла стать голодной, но это не трогало ее. Она была уверена в том, что к зиме останется одна. А там все равно, будет голод или нет. Глаз более не опускала, осмеливаясь смотреть на Адама так, как если бы была ему равной. И даже смеялась в его присутствии.
Когда вести о том, что творилось в те дни в Варшаве, дошли до них, Адам ничем не выказал беспокойства. Обронил только: «Стало быть, отец вышел в отставку». И больше к тому не возвращался. Но Эла хорошо понимала, что вот теперь ей остается только считать минуточки возле него.
Они спали всегда вместе, словно цепляясь друг за друга, как за последнее на земле. И она научилась жалеть и его тоже. Но только внутри этой жалости, в самой ее сердцевине, была страшная мука – жить без него Эла теперь уже не могла, жалея и себя тоже и с удивлением узнавая, что она – продолжение его. И совсем не удивилась, когда в середине сентября поняла, что понесла. Но этой тихой радостью не делилась даже с ним. Берегла его. Знала, что сделает его ношу еще тяжелее.
- Как звали твоего мужа? – однажды спросил Адам. – Ты говорила, я запамятовал.
- Миежко, - ответила она, отвлекаясь от замешивания теста – вздумалось ей напечь оладий. Тесто выходило густоватым, и она сердилась.
- Миежко Вуйцик, - медленно произнес он. Это было начало октября. Восстание было подавлено. Русские вошли в Варшаву. Оставались только Замостье и Модлин. Дни их были сочтены – это то, что говорили теперь в городе. Адам совсем почти поправился. Рана на голове зажила, оставив только в густых светлых волосах прогалину, которую вовсе не было видно. В самые сокровенные их минуты она зарывалась пальцами в его кудри и нежно поглаживала ее. Кости на плече немного выпирали, рука была едва заметно вывернута и плохо слушалась. Он в шутку говорил, что теперь стал калекой. Она отмахивалась и отвечала, что считала бы его калекой, если бы он остался без руки.
- Миежко Вуйцик, - снова повторил он и повернулся к ней: - Можно я назовусь Михалом Вуйциком?
Она выронила ложку, которой мешала тесто, и подняла на него глаза. Побелевшие губы едва разлепила, чтобы выдохнуть:
- Можно. Но как сделать пашпорт?
- То моя забота.
Больше они не заговаривали о том, чего страшились оба.
Она чувствовала, что он не сможет остаться. И никогда не смог бы. У него была жизнь, его жизнь, совсем другая жизнь. Что делать ему в хате рыбачки на берегу Нарева? Он заскучал бы с ней уже скоро. Так хоть помнить будет.
Он глядел на нее подолгу, стараясь запомнить каждую черту, каждый взгляд и каждое движение. Зачем нужна ему эта память, он не знал. Иногда, когда она бегала по дому или по двору со всевозможными заботами, он резко останавливал ее за руку и припадал губами к родимому пятнышку на шее под ухом. Отчего-то ему казалось, что, когда совсем ничего не останется, вот только это пятнышко он и будет вспоминать.
Он оттягивал свой уход еще две недели. И только в середине октября понял, что тянуть уже некуда. Сначала хотел отправиться в Липняки, поглядеть, что там стало. И, может быть, узнать о судьбах Юлии и Божены. А потом намеревался уехать в Вильну, где у Липницких жили друзья, в надежде, что те помогут ему выехать за пределы империи. Без документов, имея нужду скрываться, остаться неузнанным – при его-то имени, при его-то отце – такое путешествие представлялось трудной задачей. Но другого пути у него быть не могло.
Адам не жалел о том, что выжил. Как не жалел о том, что все было кончено бесповоротно. Он освободился. Та борьба, что была, была в нем самом, и теперь ее не стало. Не за что бороться. Выстояла в бою рыбацкая хата, а армия разбита и сожжена у реки.
В одну из ночей Адам проснулся оттого, что услышал, как рыбачка плачет у него на груди. Ему стало невыносимо жаль ее, но поделать ничего не мог. Как заберешь ее с собой? На какую жизнь? И все-таки тихо проговорил:
- Уедем вместе?
Она замерла. Плечи вздрагивать перестали. Всхлипы прекратились. Только дыхание ее еще оставалось судорожным. Она молчала бесконечно долго. А потом он услышал ее выцветший голос:
- Уезжай завтра.
Все его существо в тот же момент рванулось к ней, ломая, окончательно сметая стены, в которых он жил годами. Он притянул ее повыше и стал быстрыми поцелуями покрывать горячее мокрое от слез лицо. Она не отвечала. Он спустился поцелуями по шее, к груди. Она оставалась безвольной куклой в его руках. Потом он уложил ее на подушку, навис сверху и снова, как в самую первую ночь, еще в мае, стал губами исследовать ее тело от низа живота до родимого пятна на шее. Едва ее ладони дернулись вверх, к лицу, он перехватил их и тихо шепнул:
- Не надо.
И в то же мгновение она обняла его шею, словно снова впуская в себя.
Утром она была спокойна и, приготавливая ему с собой в дорогу еды, только давала короткие указания, что он должен делать, а чего не должен. Словно бы он был ей мужем и уезжал на неделю по делам, а она боялась, что он простудится или будет обманут попутчиками, коли те попадутся ему в дороге. Потом вспомнила – побежала в комнату, открыла сундук и велела выбрать там одежду Миежко. «Он пониже вас ростом был, но, может, что подойдет». Когда Адам услышал из ее уст это «вас», которого так давно она не произносила, то едва не выронил из рук суму, что она ему дала. А она давала и давала, ничего не требуя взамен.
Они толком не попрощались. Он боялся лишний раз поднять на нее глаза. И в ушах его снова звучал ее вскрик, тот, который не вымывался волнами Нарева, не выгорал под знойным летним солнцем, не вытирался губами и руками, скользящими по коже – до самой души ничего не доставало. Она не стала целовать его напоследок. Просто перекрестила в спину, как крестят в спину хоть мужички, хоть шляхтички.
Идти он должен был в обход Остроленки, чтобы лишний раз не входить в поселения. И первый час шел быстро, не оглядываясь и не думая. Дорога была плохая. Но в сухую осень хоть грязь не месил. Вокруг все было ржавое и багровое, словно горело. Или это ему так представлялось? Да что там! Кожа его пылала. Разум пылал. Сердце пылало. Жить не мог, знал, что умрет, если остановится хоть на минуту. И едва подумал о том, сразу остановился. Замертво не упал. Жизнь в нем пробивала себе дорогу, цвела буйным цветом и хотела одного – хотела любви. И знал, что любить теперь может. И знал, что любит. Он стал различать звуки. Слышал, как лес шумит – он виднелся отсюда совсем неподалеку. Слышал, как птицы кричат – кружа в небе черными стаями. Слышал, как дышит – шумно, болезненно. И все вокруг жило, кружилось, шумело. И сам он был частью этого, вплетаясь в узор немыслимой красоты.
Небо над ним было ярким, синим, под стать горячим цветам земли.
«Небо везде увидеть можно» - будто она совсем рядом произнесла, почти на ухо. И вдруг понял, что значили эти слова. Эла Вуйцик, рыбачка с Нарева, сама не ведала, что сказала. Но сказала так, будто приговорила.
Беда в том, что без нее не нужно ему неба.
Он так и стоял на дороге. И улыбался – дорога Адама Липницкого была окончена. Он вернулся домой.
Конец._________________

 Нельзя жить прошлым, но это так трудно, когда ты одинок, когда кажется что прошлое - это единственное, что у тебя есть. Андре её настоящее, и теперь, я уверена, что и будущее, и слава богу)))))
Нельзя жить прошлым, но это так трудно, когда ты одинок, когда кажется что прошлое - это единственное, что у тебя есть. Андре её настоящее, и теперь, я уверена, что и будущее, и слава богу))))) 


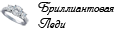
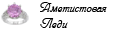




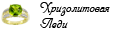


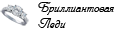


 В теме «Выставка работ наших фотошоперов»: Аватарка: 150*150px 91Кб. Подпись: 500*150px 516Кб. Цена загрузки: ~160N Свободная цена: от 10 найсов. ПРОДАНО! Покупатель: bronzza
В теме «Выставка работ наших фотошоперов»: Аватарка: 150*150px 91Кб. Подпись: 500*150px 516Кб. Цена загрузки: ~160N Свободная цена: от 10 найсов. ПРОДАНО! Покупатель: bronzza  В журнале «Little Scotland (Маленькая Шотландия)»:
В журнале «Little Scotland (Маленькая Шотландия)»: