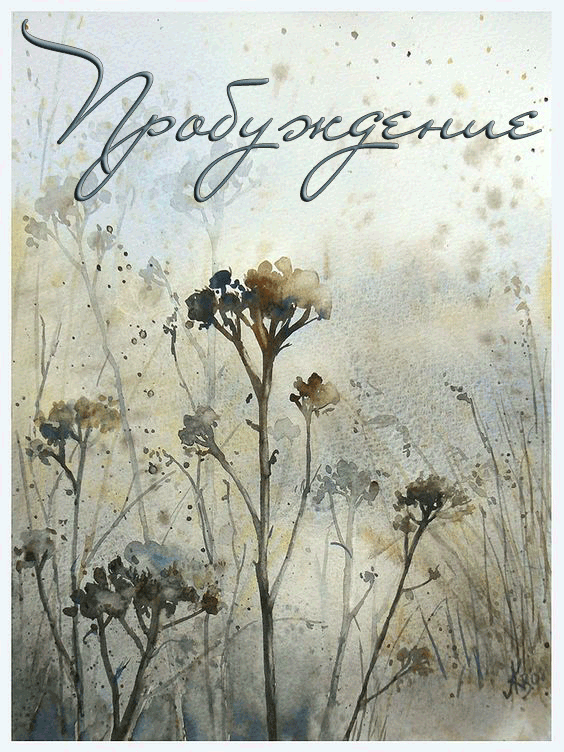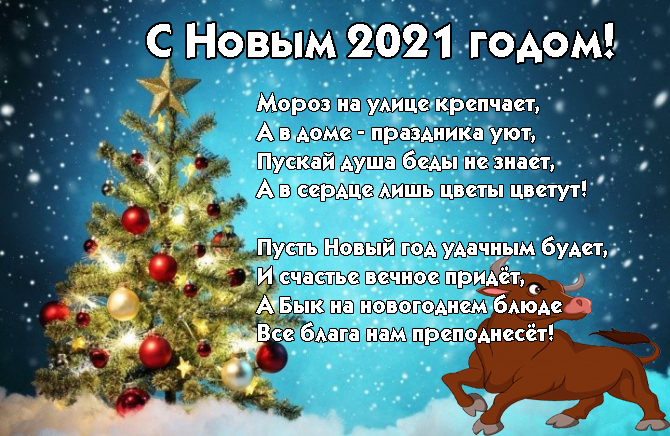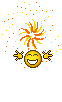9 февраля 1816 года в Петербурге, в казармах гвардейского Семеновского полка, в квартире двух братьев, молодых офицеров Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, собрались их друзья, однополчане и отчасти родственники. Поспорив некоторое время про политику, они решили создать тайное политическое общество, которое получило название Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества.
Собственно учредителей общества было шесть человек: сами Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, полковник генерального штаба Александр Муравьев, будущий автор «Конституции» Никита Муравьев, князь Сергей Трубецкой и Иван Якушкин. Семеновские офицеры были очень молодыми — от 21 до 26 лет, самым старшим был 26-летний Сергей Трубецкой. Они недавно вернулись с войны, они были в боевых наградах. Это был костяк основателей Союза спасения. Впоследствии довольно быстро к ним примкнули их друзья и единомышленники, такие как Михаил Лунин, Павел Пестель, уже известный тогда поэт и литератор Федор Глинка, князь Федор Шаховской. Однако в целом Союз спасения был немногочисленной организацией, исследователи насчитывают в нем примерно до 30 членов.
Собственно, что они хотели? Как вспоминал Иван Дмитриевич Якушкин, основное их настроение было такое:
«В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед».
Вот оно — ощущение молодых офицеров, вернувшихся с войны, на глазах которых преобразовался мир, а дома все осталось по-старому. Им хотелось что-то с этим уже сделать — и привести миропорядок в более справедливое состояние. Программа у них тогда была довольно неопределенной, но и взгляды участников тоже не отличались большой отчетливостью. Вообще у декабристов никогда не было ничего похожего на идеологию, а были разные мнения, споры, дискуссии.
Прежде всего, конечно, их возмущало крепостное право. Они хотели ограничения самодержавия, во-первых, конституцией, которая бы ставила законодательные рамки, и, во-вторых, каким-то представительным органом, чем-то вроде избранного парламента. Кроме того, они были офицерами, и неудивительно, что в первых пунктах их программ были и ограничение 25-летнего срока службы солдат, и реформирование рекрутских повинностей. То есть они выступали за какой-то более гуманный и справедливый способ набора солдат в армию и их службы. Естественно, дальше шел круг претензий, довольно понятный каждому, кто задумывался вообще о России того времени: справедливые суды, уничтожение лихоимства, то есть взяточничества, и масса других вещей общегуманистической направленности.
При этом нужно помнить, конечно, что декабристы — дворяне, а их отцы — помещики. Этим молодым людям при нормальном течении вещей когда-то предстояло стать владельцами отцовских имений. То есть их порыв против крепостного права был направлен, безусловно, против основ материального существования их собственных семей и их сословного круга. Для них в этом смысле вопрос справедливости и нравственности был важнее.
При этом они сильно отличались от нас тем, что мы живем в мире, пережившем марксизм, и мы уже привыкли считать, что экономика лежит в основе всего, что происходит с обществом. Это для нас аксиома, но в ту эпоху это не то что не было аксиомой — а наука политической экономии тогда только возникла, только появились первые работы под таким грифом. Декабристы, будучи людьми любознательными, интересовались этой новой наукой, и в том же 1816 году некоторые из них слушали в Петербурге частные лекции профессора Куницына (это был профессор из Царскосельского лицея, он среди прочего учил Пушкина). Они заказали частные лекции по политэкономии, чтобы ознакомиться с этой новой наукой.
Мысль, что крепостное право тормозит экономическое развитие России, совершенно не была для них фундаментальной. Мы сейчас, говоря о крепостном праве, в первую очередь думаем об этом. Для них такой подход и такая постановка вопроса были не актуальны, для них главным и актуальным были нравственное содержание и вопрос элементарной человеческой справедливости. Как один человек может быть принадлежностью другого? Им это уже казалось достаточно диким и архаичным.
Мне бы хотелось сказать, что, с одной стороны, декабристы, получается, первое русское поколение, которое всерьез готово отменить собственные привилегии. С другой стороны, сама по себе эта идея о равенстве людей, о всяком гуманизме не была абсолютно новой, и история — очень лукавая и часто ироничная штука.
Я покажу одну цитату отца Павла Пестеля, Ивана Борисовича, который был очень крупным чиновником и много лет занимал должность генерал-губернатора всей Сибири. Когда сын был еще маленьким, ему было лет 11, отец как сенатор совершал ревизию Казанской губернии. Была такая практика, потому что средства связи были слабые, в Петербурге плохо понимали, что происходит на самом деле в той или иной губернии, и посылали сановника разобраться. И вот он проводил эту ревизию и счел нужным написать сыновьям, Павлу и его братьям, очень длинное и чрезвычайно эмоциональное письмо, оно прямо выделяется из всего, что отец писал сыновьям в то время.
Он описывал, как, проезжая по казанским деревням, нашел множество всевозможных злоупотреблений: бедных крестьян притесняли местные чиновники. И вот он, проезжая, принимал жалобы, на месте кого-то отставлял от должности, восстанавливал попранную справедливость, и крестьяне целыми деревнями выходили его благодарить, падали перед ним на колени. Вот что он писал:
«Ах! Дорогие мои дети, просите Бога, чтобы он дал вам сердца, способные живо чувствовать счастье от того, что доставляешь его ближним. Нет блаженства равного тому, когда облегчаешь угнетенных. Вот, мои добрые друзья, единственное и наибольшее удовольствие, какое дает нам высокое положение, — это иметь возможность сделать больше счастливых».
В целом то, что пишет Пестель-отец, было вполне в рамках сентиментальной добродетельной проповеди XVIII века. Но он, наверняка, не рассчитывал, что сын его поймет настолько буквально.
На фоне этого разговора о равенстве декабристы, конечно, выступали против всевозможных сословных перегородок, против привилегий собственного сословия и за ограничение ничем законодательно не ограниченной власти самодержавного монарха.
Опять же, голоса об ограничении самодержавия раздавались и в XVIII веке, но тогда это было скорее некой претензией аристократии на свою долю власти, на то, чтобы больше и плотнее участвовать в государственном управлении. Декабристы же говорили о всеобщем участии во власти, о, может быть, если не всеобщем, то очень широком избирательном праве — тут приходится сделать такую оговорку, ведь они мечтали о республике и об избирательном праве в стране, где население по большей части было аграрное и почти поголовно безграмотное. Совершенно непонятно, каким образом эти крестьяне реально должны были голосовать.
В принципе, декабристы это осознавали, и как вариант решения Никита Муравьев в своей «Конституции» предлагал имущественный ценз. То есть право избирать и право быть избранными имели бы только люди, обладающие уже какой-то собственностью, домом или капиталом выше определенного порога. Это доказывало бы некоторую состоятельность такого человека, его способность принимать решения и в том числе распоряжаться судьбами страны, раз он смог распорядиться собственным достоянием.
А Пестель, наоборот, очень решительно с этим спорил, и вот почему я подчеркиваю разницу с XVIII веком. У Пестеля очень много раз — и в его конституционном проекте, и в том, что он писал на следствии, объясняя свои взгляды, —присутствовал такой момент: он предостерегал против того, что в таком случае возникнет пагубная «аристокрация богатств». То есть на смену родовой аристократии придет власть людей богатых. Он считал, что этого нельзя допускать, и настаивал на всеобщем избирательном праве.
При этом для декабристов был характерен постоянный спор, как должна быть устроена верховная власть: республика или конституционная монархия. Но они понимали конституционную монархию, когда при короле существует парламент и конституция, и республику как практически одно и то же. На самом деле разница между президентом и царем в их понимании состояла только в форме передачи власти, потому что президент выбирается, а монархия — это власть наследственная. Никита Муравьев склонялся к конституционной монархии, а Пестель менял свои взгляды и склонялся то к конституционной монархии, то к республике. На следствии сам он утверждал, что считал этот вопрос не самым принципиальным, и «Русскую правду»
писал так, чтобы эту главу можно было легко заменить, не трогая все остальное.
Сам по себе этот спор о республике и конституционной монархии показывает одну важную характерную черту декабристов. Они, в принципе, хотели преобразований и реформ, но они не были одержимы идеей революции и непременно маниакального свержения самодержавия. Если бы власть сама пошла на реформы, наверное, эти молодые люди были бы первыми, кто ринулся бы участвовать в этом, помогать, занимая какие-то служебные посты. Тем более что в те годы Александр I сам демонстрировал очень много либеральных намерений. Все знали, что он, в общем, тоже человек передовых взглядов, он подумывал о конституции, и переворот в его взглядах наступил только в начале 1820-х годов, когда он стал гораздо консервативнее. Поэтому, если бы власть двинулась в сторону реформ, декабристы бы не были в оппозиции, они бы, в общем, были помощниками власти. Но поскольку власть в сторону реформ не двинулась, они продолжали линию тайных обществ.
Устав Союза спасения, первой созданной декабристами организации, был написан Пестелем по поручению товарищей, и устав всем не понравился, потому что Пестель пытался заимствовать очень много организационных форм, в том числе масонских. Он создал очень сложный устав со сложным ритуалом приема, градациями посвящения членов, разнообразными клятвами, но мы не знаем точно, поскольку этот устав до нас не дошел — мы знаем о нем только в пересказе декабристов. Остальным это все не понравилось, показалось слишком ритуализованным, возникло много споров о внутреннем содержании общества, и в результате в 1818 году они распустили Союз спасения и преобразовали его в Союз благоденствия, устав которого до нас дошел. Там очень большой акцент делался на нравственном совершенствовании, благотворительности и всевозможном распространении добра и справедливости вокруг себя.
При этом, по воспоминаниям некоторых членов, была еще вторая, секретная часть устава, которую не всем членам даже показывали, и вот там были более революционные вещи. Но в целом Союз благоденствия и его устав показывают, что для декабристов оставались открытыми оба этих пути. Они колебались и спорили, рассуждали о возможности как революционных преобразований, так и просто постепенной работы на спокойную эволюцию общества путем распространения своих взглядов, идей равенства и конституционных идей, о которых тогда много говорили.