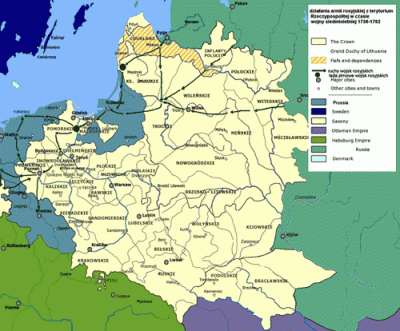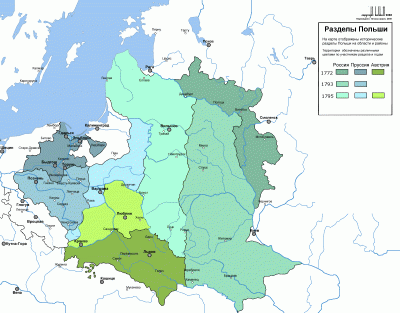Увлекаетесь ли вы историей? |
| да, очень |
|
66% |
[ 154 ] |
| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |
|
2% |
[ 6 ] |
| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |
|
1% |
[ 3 ] |
| нет, но хотелось бы |
|
4% |
[ 11 ] |
| По стольку по скольку... |
|
5% |
[ 12 ] |
| раньше улекалась(ся) |
|
4% |
[ 10 ] |
| скорее да, чем нет |
|
14% |
[ 33 ] |
| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |
|
0% |
[ 1 ] |
Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?
Москвичка:
Да, любопытные материалы выложили девочки.
Миона - просто клад! Про театр интересно (ещё бы, имея такие древние подмостки у себя дома! Жаль, пропустила... Выздоравливай).
Про Ломоносова - тоже интересно, потому что довольно спорно, может, если тебе попалась такая статья, попался и ответ на неё? Другая точка зрения? Контраргументы. У меня, например, возникли некоторые вопросы...
Очень хотелось бы и о 1812 г. поговорить, потому что статья, предложенная
Мавлюдой, смещает акценты совсем не в ту сторону, на мой взгляд. Вроде всё верно, факты - не подкопаешься, а в итоге картина не та вырисовывается, не очень правильная, я бы сказала. Хотелось сразу свои вопросы и ответы предложить, но за недостатком времени никак не получается. Возможно, позже... Меня, признаться, удивило, что никто больше эту тему не поднял - мне казалось, что эта тема вызовет такой же интерес, как и Великая отечественная. Хотя, возможно, это потому, что статья выпала из регламента? 19 век, а не 18? (Хотя, вроде, про Александра II здесь немало интересного на этой неделе)
Хотя и в 18 веке войн хватало - везде, и в России в частности - одних русско-турецких только аж целых три. А ещё и со шведами воевали, и с поляками, и даже с персами. Не говоря уже о такой войне, как восстание Емельяна Пугачёва.
Так, меня опять не туда понесло - чувствуется мужское окружение. Я, вообще-то, хотела тихоооонечко напомнить: кто-то обещал про нашу весёлую Елизавету Петровну материальчик подкинуть. Хочу услышать, какая она была умная, красивая, добрая... Ну просто принцесса из сказки!
Смех смехом, а ведь именно она "мораторий" на смертную казнь ввела - в 18 веке! И искусства с науками при ней ого-го как расцвели! (вот, опять Ломоносов! Но ведь не только он один). Наша
whiterose даже кое-что наглядно продемонстрировала (за что ей отдельное спасибо!). Университет опять же.
Ну и балы, маскарады... И как это всё успевали? И повоевать, и парочку открытий сделать, и погулять от души... И шедевров насоздавать, один из которых потом даже "спионерили"...
Так как, девочки, никто не горит желанием поделиться?..
...
miona:
» Николай Резанов. "Юнона и Авось"
Я еще чуть про "раздвоение"... А потом и про Кутузова, и оч. интересный ПОЛЬСКИЙ вопрос в 18в.
«”Юнона” и “Авось”»
Памяти одного из плеяды "строителей России"
Николая Петровича Резанова /1764 - 1807 гг./
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнёт в Америку держава...
М.Ломоносов
"Не знаю, будет ли у вас принят план мой, я не щадил для него жизни.
Горжусь им столько, что ничего, кроме признательности потомства, не желаю.
Патриотизм заставил меня изнурить все силы мои...
Остается мне пожелать только того, чтобы мой труд Монарху угоден был,
верь, что мне собственно ничего не нужно."
Из предсмертного письма Н.П. Резанова М.М. Булдакову
Сцена из спектакля
Четверть века назад, в 1981 году театральной сенсацией стала постановка режиссера Марка Захарова в театре им. Ленинского Комсомола рок-оперы Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского «”Юнона” и “Авось”».
Вдумаемся - на сцене Ленкома звучали православные молитвы и песнопения, развевался Андреевский флаг, появилась Богоматерь с младенцем Иисусом. Это казалось чудом - да и было чудом. Позднее Марк Захаров рассказывал, что, перед сдачей комиссии спектакля, он рано утром сходил в храм и освятил три маленьких иконки. Две поставил в гримерки к главным героям, одну взял себе. В результате спектакль был принят без замечаний и цензурных поправок, что в те времена вообще было редкостью.
История этого произведения началась со встречи А. Рыбникова и А. Вознесенского. Рыбников, человек глубоко верующий, захотел соединить традиционные православные песнопения с элементами современного музыкального языка. И в это время к нему подошел Андрей Вознесенский с текстом своей поэмы «Авось!», написанной на основе подлинных исторических фактов. Так началась работа над оперой.
Поэма «Авось!» заметно отличалась от либретто оперы. Само название ее означало как имя корабля, так и слово, которое, по мнению Вознесенского было одним из проявлений особенности русского духа. Но корабль «Авось» - одномачтовый тендер, первый российский корабль, построенный на Аляске, был лишь вспомогательным судном, участвовавшим в той
исторической экспедиции. Основным кораблем был трехмачтовый фрегат «Юнона». Так либретто получило название «”Юнона” и “Авось”»
В основе сюжета оперы - история любви русского графа Николая Петровича Резанова и Марии дела Концепсион Аргуэльо дочери коменданта крепости Сан-Франциско. Они встретились в Калифорнии, были знакомы несколько недель, обручились. Спустя год, на пути в Петербург Рязанов умирает в Красноярске. Кончита ждет его 35 лет, после чего становится монахиней Доминиканского Ордена.
Вознесенский и в поэме и в либретто весьма вольно обошелся с исторической правдой. Была изменена хронология событий, граф Николай Петрович Румянцев, выдающийся государственный деятель, меценат, коллекционер и библиофил, чье собрание книг легло в основу Румянцевской, впоследствии Ленинской библиотеки, стал почему-то Алексеем Николаевичем.
Да и Николай Резанов был для Вознесенского поводом создать образ современного человека – раздвоенного, мучимого комплексами, мечущегося в поиске смысла жизни.
«Российская империя – тюрьма,
Но за границей тоже – кутерьма.
Родилось рано наше поколение,
Чужда чужбина нам и скучен дом,
Расформированное поколение,
Мы в одиночку к истине бредем»
О ком это – о Резанове или о самом авторе?
Или такая деталь - исторический Николай Резанов прекрасно владел испанским языком, в опере же разговаривал с Кончитой и другими испанцами исключительно через переводчика.
Алексею Рыбникову для постановки в Ленкоме также пришлось перерабатывать музыку оперы. Условия театра не позволяли использовать симфонический оркестр, для него не было места. И первый, симфонический вариант пришлось переоркестровать для рок-ансамбля.Так появилась рок-опера.
С тех пор прошло 25 лет. Многое изменилось в мире, в стране, на театральных подмостках. Но неизменен оглушительный успех этого спектакля. До сих пор в театре аншлаг, фантастическими тиражами распродаются записи музыки. И даже у тех кто не видел спектакля при словах «”Юнона” и “Авось”» - трепещет сердце, что-то внутри загадочно резонирует.
Восемнадцатый век.
Эта история началась в ХVIII веке - веке веке философов-просветителей, Моцарта и Гайдна, веке Великой Французской революции, войн за передел Европы, завоеваний Наполеона . В этих событиях так или иначе участвовала и Россия, искавшая свое место в семье европейских народов, укрепляющая границы, стремящаяся к новой геополитической роли.
Россия закреплялась на побережье Балтийского и Черного морей, искала выход в Средиземное. За всем этим пристально и с опаской наблюдала Европа
Но в то же время Россия продолжала двигаться и на Восток. По следам Ермака шли отважные исследователи-землепроходцы Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Семен Дежнев и многие другие, оставившие свой след на картах, в легендах, исторических документах. В ХVIII веке были сказаны Ломоносовым пророческие слова: «Богатство России Сибирью прирастать будет».
В ХVIII веке русские землепроходцы вступили на землю нового континента – Америки.
И в ХVIII веке родились наши герои: в 1764 году - граф Николай Петрович Резанов, и в 1791 году - Кончита Аргуэльо.
Личность Резанова заслуживает особого внимания. Не случайно один из исследователей назвал его «настоящим строителем империи», принадлежащим к плеяде государственных деятелей, которые видели грандиозные перспективы для России на Дальнем Востоке, Америке, на Тихоокеанском Севере. Трудами таких людей создавались слава и могущество России.
Документы, воспоминания, его эпистолярное наследие донесли до нас и другие грани его личности. Он был человеком высокообразованным, действительным членом Академии Наук, знавшим более пяти языков, прекрасно владевший пером. Любил музыку, играл на скрипке, которая сопровождала его даже в кругосветном путешествии
А главное – Резанов был патриотом в самом высоком смысле этого слова, всей своей жизнью доказавший, что интересы России были для него важнее всех личных чувств, хотя бы и самых сильных
Это был человек с богатым внутренним миром, с сильными духовными переживаниями. Резанов имел видение Богоматери, которого может удостоиться лишь человек с большими духовными накоплениями. Этот факт, пусть и очень своеобразно истолкованный, нашел отражение и в «”Юноне” и “Авось”».
***
На всех известных портретах Николай Резанов, обладатель многих правительственных наград, изображен с орденом Св. Иоанна Иерусалимского, который называют также Мальтийским крестом, отличительным знаком Мальтийского рыцарского Ордена. Мы не знаем, при каких обстоятельствах был этот крест получен Резановым. Но история Ордена в России заслуживает внимания.
Мальтийский рыцарский Орден, называемый также Орденом Иоаннитов или госпитальеров возник в Палестине в 11 веке для помощи паломникам на Святой земле. Его полное название - "Орден всадников госпиталя св. Иоанна Иерусалимского".
Первоначально основной деятельностью Ордена были лечение больных (отсюда название «госпитальеры»), и охрана путешествующих. Покровителем Ордена был Св. Иоанн Иерусалимский. В 16 веке центром деятельности Ордена стал о. Мальта, отсюда его современное название. Рыцари Ордена отличались глубокими познаниями в медицине, алхимии и других тайных науках, без которых не мог в то время обойтись врач. Сложными и неоднозначными были отношения ордена и с Ватиканом.
К концу 18 века Орден испытывал серьезные трудности, под угрозой оказалось само его существование.
И в этот момент российский император Павел I принял на себя управление Орденом и его защиту. Для Павла это был поступок, исполненный глубокого смысла, часть плана, который ему не дано было осуществить. А Мальтийский крест был для него важным символом. Павел заменяет им все награды, введенные его матерью Екатериной Великой.
После гибели Павла его наследник Александр I постепенно сворачивает деятельность Мальтийского Ордена в России и выводит из употребления его отличительный знак - Мальтийский крест. Из «престижной», модной награды при Павле крест превращается в начале 19 века в напоминание о сомнительной эпохе непонятых реформ. Но Резанов остается верен «опальной» награде. Есть сведения, что на его несохранившемся памятнике он был назван кавалером Мальтийского креста. Для Резанова эта награда значила больше, чем другие ордена. Не было ли это связано с теми сокровенными знаниями, которые еще хранили мальтийские рыцари?
***
В эпоху Екатерины Великой многие стремились сделать блестящую карьеру при дворе. Подобно многим дворянам, Николай Резанов в 1778 году, в возрасте 14 лет поступает на военную службу в Измайловский полк.
Сохранившиеся воспоминания, портреты, документы того времени рисуют его облик: красив, умен, образован, обладает незаурядными деловыми качествами. В 1787 году он назначен руководителем охраны Екатерины в ее путешествии по Южной России, землям, недавно вошедшим в состав Российской Империи. Но столь удачно начавшаяся придворная карьера внезапно обрывается. Резанов оставляет военную службу, уезжает в Псков, где поступает на службу в гражданский суд
В чем причина столь странного поступка?
Существует несколько версий, в том числе и придворные интриги - многим Резанов мог быть слишком серьезным конкурентом. Но, возможно, Резанов стремился не к мишурному блеску светской придворной карьеры, но к делу, пусть неброскому, но приносящему конкретную пользу.
Впрочем, спустя несколько лет он вновь возвращается Петербург, где занимает должности сначала начальника канцелярии графа Н.Г. Чернышова, затем поэта Г.Р. Державина и, наконец (с 1797 по 1799 годы) обер-секретаря Правительствующего Сената, высшего государственного органа по законодательству и государственному управлению, подчиненного непосредственно императору.
Все эти должности. требовали незаурядных деловых качеств, системного дисциплинированного мышления, понимания всех тонкостей функционирования бюрократического механизма государства.
В 1794 году находясь в Иркутске, Резанов встречается с купцом Григорием Ивановичем Шелеховым, «Колумбом российским», основателем первых русских поселений на Аляске и Алеутских островах. С этого момента его жизнь неразрывно связана с историей Руссой Америки.
Русская Америка.
После открытия русскими землепроходцами полуострова Аляска и Алеутских островов, российские купцы устремились во вновь открытые земли. Колонизация шла хаотично, все действовали на свой страх и риск, опасаясь конкуренции. Многие гибли. Неизбежны были конфликты с местным населением, что осложняло и без того рискованный промысел. Стихийному и хищническому этапу колонизации Аляски положил конец Григорий Шелехов.
Первая же организованная им экспедиция оказалась весьма удачной, принеся немалую прибыль. Более того, в ходе нее было основано в 1784 году первое русское поселение на острове Кадьяк.
"Столь счастливое Шелехова возвращение произвело в торгующих зависть. Они послали суда в места, им отысканные, склоняли к измене тамошних жителей, попирали иногда право собственности и таковыми насилиями давали американцам превратные о россиянах понятия; междуусобные наконец несогласия самих промышленников, разным хозяевам принадлежащих, побудили Шелехова мыслить о скорейшем устроении прочной компании. Он подал императрице Екатерине II проект о просвещении тамошнего края христианскою верою и заведении кораблестроения, хлебопашества, скотоводства и приведении всех торгующих в одно тело. Проект сей, обещавший Отечеству твердую ногу, а торговле новые отрасли, удостоен был "особливого внимания", - так писал о этом впоследствии Николай Резанов.
Но освоение новых земель сталкивалось с колоссальными трудностями. Ведь даже на Дальний Восток приходилось практически все везти из России, а на Аляску еще и переправлять на кораблях.
«Великое отдаление и чрезвычайные в привозе всякого рода вещей затруднения, к чему употреблялось ежегодно более 4000 лошадей, возвысили цены на все даже в Охотске до крайности. Так, например, пуд ржаной муки стоил и во время дешевизны, когда в восточной Европейской России он продавался по 40 или 50 копеек, 8 рублей, штоф горячего вина 20, а нередко 40 или 50 рублей, в равномерном к тому содержании и другие потребности. Часто случалось, что по перевозке оных уже через великое расстояние были по дороге разграбляемы, и в Охотск доходила малая только часть. Перевоз якорей и канатов казался совсем невозможным; но необходимость в оных заставляла прибегать к средствам, наносившим нередко вредные последствия. Канаты разрубали на куски по 7 и 8 саженей, по доставлении в Охотск опять соединяли и скрепляли. Якоря перевозили также кусками, которые потом сковывали вместе. Так труден и дорог был воз до Охотска! Но и из оного на острова и в Америку был столько же мало удобен и безопасен» - писал И.Ф. Крузенштерн.
[
Шелехов умел мыслить не только экономическими, но и государственными категориями. Среди его дел по обустройству колоний были и школы для туземных детей и распространение христианства среди местного населения. Следствие такой политики заметил знаменитый английский мореплаватель Джордж Ванкувер, исследовавший Тихоокеанское побережье Северной Америки: "Я с чувством приятного удивления видел спокойствие и доброе согласие, в котором они (русские) живут между самыми грубыми сыновьями природы. Сохраняют они над ними власть не страхом и угрозами, как то обычно бывает, но, кажется, русские нашли дорогу к их сердцам и приобрели от них почтение и любовь".
[Но деятельность Шелехова и созданной им Объединенной Американской Компании (ОАК) встречала множество препятствий со стороны как конкурентов, так и чиновников. Поэтому знакомство с графом Резановым стало для Шелехова «подарком судьбы». У Резанова было то, что необходимо для дальнейшего развития ОАК – деловые качества, связи при дворе и среди высших чиновников, образованность и нравственный авторитет.
Через год, в 1795 г. Резанов заключает брак с дочерью Шелехова Анной, которой было 15 лет. Этот союз был не только продиктован интересами дела – Резанов любил и уважал свою жену. В 1801 году у них рождается сын Петр, а через год – дочь Ольга. Через 12 дней после рождения дочери Анна Григорьевна умирает.
"Восемь лет супружества нашего дали мне вкусить все счастие жизни сей как бы для того, чтобы потерею ее отравить наконец остаток дней моих,"
[7] – так писал впоследствии о своем браке Николай Резанов. Потрясенный смертью жены, он решает выйти в отставку, чтобы заняться воспитанием детей. Но этому воспрепятствовал император Александр I.
Во многом благодаря деятельности Резанова ОАК, преобразованная в Российско-Американскую компанию (РАК), стала к этому времени крупным экономическим предприятием, пайщиками которого были высшие чиновники, члены императорской фамилии и сам АлександрI.
Трудности сообщения и снабжения, с которыми сталкивалась Компания, можно было преодолеть, лишь установлением надежного морского пути вокруг мыса Горн. Первое русское кругосветное путешествие было необходимо и для политики и для экономики государства.
В это время в Военное Министерство обратился И.Ф. Крузенштерн с предложением организовать кругосветное путешествие. Уже начавшуюся работу решено было передать в РАК. Руководителем экспедиции указом Александра I был назначен Николай Резанов.
Выбор Александра можно понять. Ведь кругосветное путешествие, особенно в то время, не только морское, но и научное, экономическое, политическое мероприятие. Возможно, у императора были основания сомневаться в компетентности Крузенштерна, но он хорошо знал достоинства Резанова.
В Англии были куплены два корабля – «Леандр» и «Темза», переименованные в «Надежду» и «Неву». Чтобы подчеркнуть заинтересованность государства в путешествии, один из кораблей был взят на содержание казны.
Для Крузенштерна появление Резанова было неприятной неожиданностью. Он не только получал над собой начальника, да еще человека сухопутного, но и заметно терял в финансовом отношении. Все это определило дальнейшие события.
26 июля 1803 года из Кронштадта стартовало первое русское кругосветное путешествие. Экспедиция должна была пересечь Атлантический океан, обогнуть мыс Горн, через Тихий океан подойти к восточным рубежам Российской империи, посетить с дипломатической миссией Японию, затем продолжить путь через юго-восточные моря к мысу Доброй Надежды и вернуться в Петербург, обогнув земной шар.
Конфликты между Крузенштерном и Резановым начались уже в Атлантическом океане. Крузенштерн препятствовал деятельности Резанова, отменял его распоряжения, всячески демонстрировал неуважение, настраивал против него экипаж. Он использовал малейший повод для конфликтов, выбрав тактику мелких придирок.
В Тихом океане произошел настоящий бунт. Резанов, здоровье которого было подорвано трудностями морского путешествия, был посажен под домашний арест, от самосуда его спасло то, что несколько членов экипажа были на его стороне.
По прибытии на Камчатку, Резанов отправил донесение генерал-губернатору о произошедшем. Крузенштерну и другим офицерам грозил суд и как минимум тюрьма. На следствии все они признали свою вину и просили Резанова о прощении. Примирение состоялось.
Впереди было посольство в Японию и немало других важных дел.
Чья вина была в этом конфликте? Л. Толстой писал: «Больше всего мы ненавидим тех, кому причинили зло». Резанов простил Крузенштерна, которому грозило очень серьезное наказание. Более того, вскоре Резанов в рапорте императору дает ему прекрасную характеристику. Крузенштерн же всю жизнь ненавидел Резанова.
Когда в 1806 году Крузенштерн героем вернулся из кругосветного путешествия, Резанов был еще в Америке. Свидетели их конфликта оставались на Дальнем Востоке. Надолго пережив Резанова, Крузенштерн и на склоне лет по-прежнему отзывался о нем резко отрицательно. И сейчас мало кто знает, что первым русским кругосветным путешествием руководил Николай Резанов.
Одной из задач Резанова в кругосветном путешествии была инспекция Русской Америки, во время которой он должен был на месте оценить состояние поселений, оказать им посильную помощь,
[8] составить план развития американских владений и вернуться с докладом в Петербург.
Но приезд на Аляску изменил все планы. Русские поселения были на грани голода, свирепствовала цинга. Нужна была срочная помощь. Резанов дает распоряжение приобрести у английского купца Вольфа судно «Юнона» с грузом продовольствия. Но его было явно недостаточно. Тогда Резанов решает идти за продовольствием в Калифорнию. Так началось знаменитое путешествие фрегата «Юнона» и тендера «Авось».
Калифорния.
Аляска и Калифорния были «обречены» на сотрудничество.
И тем не менее русские корабли были встречены враждебно. Комендант Сан-Франциско дон Хосе Аргуэльо запретил что-либо продавать русским. Потребовался весь дипломатический талант Резанова, чтобы изменить ситуацию. И на помощь ему пришла 15-летняя дочь коменданта Мария дела Консепсьон, которую близкие называли Кончитой.
Один из членов экипажа «Юноны» Георг Лангсдорф так описал ее:
"Она выделяется величественной осанкой, черты лица прекрасны и выразительны, глаза обвораживают. Добавьте сюда изящную фигуру, чудесные природные кудри, чудные зубы и тысячи других прелестей. Таких красивых женщин можно сыскать лишь в Италии, Португалии или Испании, но и то очень редко".
[Это была очень энергичная, честолюбивая, умная девушка, которой было тесно и душно в калифорнийском захолустье.
Резанов заметил в ней эти качества и решил воспользоваться ими. Он преподнес ей диадему из императорской сокровищницы, стал ухаживать за ней, и Кончита, имеющая огромное влияние на отца сумела в считанные дни изменить отношение к русским морякам так, что, по отзыву Резанова, он стал чувствовать себя в порту большим хозяином, чем комендант. Русские закупали все по выгодным ценам и грузили на корабли.
Кончита полюбила Резанова с первого взгляда. Да и как его было не полюбить? Красавец, камергер императора далекой, могучей таинственной державы, образованный, умный, мужественный, отважный.
Резанов решает закрепить это чувство помолвкой.
Любил ли Резанов Кончиту? – трудно сказать. Для него это был в первую очередь «династический» брак, выгодный его стране, делу, которому он служил.
[11]
Для Кончиты Аргуэьло эта любовь – возможность реализовать себя. Она чувствовала в себе нечто такое, что делало ее жизнь в глухом захолустье невыносимой. И она искренне, страстно, по-настоящему, полюбила.
Их помолвка, состоявшаяся перед отплытием, была тайной не в том смысле, что она была секретом для окружающих. Просто ни Кончита, ни Резанов не имели права ее совершать. Она была католичкой и для брака с православным – «схизматиком» ей нужно было разрешение Папы Римского. Он – обер-камергер двора Его Императорского Величества – не мог вступить в брак без его разрешения.
Эта помолвка не имела ни религиозной, ни юридической силы – только нравственную.
Резанов торопился – на Аляске люди ждали продовольствие. Затем предстоял долгий путь в Петербург через Сибирь. В пути он заболевает и уходит из жизни 1 марта 1807 года в Красноярске - сказалось подорванное в кругосветном путешествии здоровье..
Прошло несколько лет, прежде чем до Кончиты дошло известие о гибели Резанова. Она отказалась верить.
Ее красота и знатность происхождения делали ее завидной невестой, но она отказывалась от самых выгодных предложений о замужестве.
Она ждала.
Вела жизнь примерной дочери, ухаживала за стареющими родителями, выполняла светские обязанности - и ждала.
Вновь и вновь до нее доходили известия о гибели Резанова – она отказывалась верить и ждала.
Ушли из жизни отец и мать – она ждала.
Ожидание не сломило ее. Она оставалась прежней - сильной, гордой, энергичной.
« Консепсион оказалась не только внешне прекрасной, своевольной и страстной женщиной. Она оказалась сильной духом, способной вынести все с гордо поднятой головой и без жалоб и компромиссов прийти к своему горькому концу», - так напишет о первой красавице Калифорнии Гектор Шевиньи в романе « Утраченная империя ».
[12]
Она занимаясь благотворительностью – единственной формой общественной деятельности, доступной девушке того времени.
Концепсион Арагуэльо не вызывала жалости, хотя всем было понятно, что ее ожидание напрасно.
В этом «бессмысленном» ожидании таилась колоссальная духовная мощь.
Лишь в начале 40-х годов, 35 лет спустя в Калифорнию пришли официальные документы, подтверждающие гибель Резанова. Только тогда она стала монахиней Доминиканского Ордена под именем Мария Доминика, и получила прозвище Беата (Благословенная). Но и в монастыре она не стала затворницей. Недаром ее прозвали « танцующей монахиней». Продолжала заниматься благотворительностью, была первым организатором школы для туземных детей. Она ушла из жизни в 1857 году пережив Резанова на 50 лет.
А что же стало с Русской Америкой?
РАК продолжала существовать и действовать. За время ее существования были организованы 139 кругосветных и полукругосветных экспедиций – больше, чем организовали за это время все страны Европы.
В 1812 году в Калифорнии близ Сан-Франциско русские поселенцы основали поселение, названное Форт Росс. Российские связи с Калифорнией были необходимы, тем более что юридически все земли к северу от Сан-Франциско были согласно международным договоренностям свободными. В какой-то момент Мексика предлагала России даже Калифорнийское побережье в обмен на дипломатическое признание. Но отсутствие финансирования, а главное – государственного внимания к делам Русской Америки делало существование русских поселений делом бесперспективным.
Спустя 30 лет, почти тогда же, когда Кончита приняла монашеский сан, Форт Росс был продан эмигранту из Германии Дж. Саттору.
А еще спустя 7 лет, в 1849 г. именно на землях, принадлежащих форту, было найдено золото, и началась знаменитая калифорнийская золотая лихорадка, которая превратила Америку в то государство, которое мы знаем. До начала золотой лихорадки США не интересовались Тихоокеанским побережьем, путь к которому преграждали прерии, индейцы и горы. Золотая лихорадка стала импульсом к движению Америки на Запад.
В 1867 году участь Форта Росс постигла Аляску - она была продана за 7 200 000 долларов. И повторилась та же история - спустя несколько лет там было найдено золото, началась новая эпопея, воспетая Джеком Лондоном.
РАК просуществовала до 1881 года, но это был процесс ликвидации поселений, растянувшийся на 15 лет.
Так закончилась история Русской Америки.
Исторический шанс был упущен, уникальное стечение обстоятельств не было использовано. Героические усилия "Колумбов Росских", самоотверженно осваивавших далекие американские просторы не было поддержано политической волей Российской империи.
История не знает сослагательного наклонения.
Бесполезно гадать, что бы произошло, если бы государственный ум, патриотизм, деловые качества Николая Рязанова соединились с духовной силой Кончиты Аргуэльо, и что бы мог свершить такой союз.
Они ушли из жизни, оставив нам лишь память о любви, которая могла бы изменить карту мира.
[3] «Резанов — первый русский, обогнувший весь земной шар… Красавец с волевыми чертами лица, умный, высокоинтеллигентный, светский, очаровательный, мужественный, смелый — Резанов представлял собой идеальный тип Русского аристократа духа и тела — творителя России. Ни один русский государственный деятель не приобрел за границей, несмотря на вековую неприязнь и даже ненависть к России, такой трогательной симпатии, как Резанов» Энциклопедия «Британника». Цит. по:
http://rezanov.krasu.ru/commander/vsKruzenshtern.php
[4] «Около света. Первое путешествие россиян, описанное Н. Резановым» «Отечественные записки» 1822 – 1825 гг. Цит. по:
http://rezanov.krasu.ru/commander/book1.php
[11] В своем последнем письме от 24 -26 января 1807 года своему свояку, директору РАК М. М. Булдакову Резанов так отзывается о своей калифорнийской невесте:
“Из моего калифорнийского донесения не сочти меня, мой друг, ветреницей. Любовь моя у вас, в Невском под куском мрамора, а здесь – следствие ентузиазма и очередная жертва отечеству. Контенсия мила, добра сердцем, любит меня, и я люблю ее и плачу, что нет ей места в сердце моем.” Цит. по: сетевой журнал «Визави»
http://www.infotech-sib.ru/visavi2/
...
whiterose:
Москвичка, я завтра собираюсь немного о Елизавете написать (времени совсем нет

, поэтому я частями

), но я не буду подробно в виде научной статьи, так, маленькое эссе "Моя Елизавета"

Про театр замечательная статья (скопировала себе на компьютер)
Что же касается "Юноны и Авось", девочки, мне повезло. Когда-то я видела этот спектакль в Ленкоме с Караченцовым.

Этот голос, эта игра на разрыв, потрясающие слова текста... совсем не думаешь об историческй достоверности - просто не можешь оторвать глаз от сцены

...
miona:
» и еще раз о Резанове
В 1981г. 10 июля, "в честь" моего 20-летия и 1м-ца, мои друзья "выкрали" меня на военно-транспортом самолете в Москву и "подарили" мне ПРЕМЬЕРУ......
Наверно, невзможно передать, КАКОЙ оглушительный ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УДАР И ШОК мы получили....ЭТО было НЕВИДАННО. Невозможно передать.
И навсегда это состояние просто невозможно вытравить из сердца и души... Ни одна история еще ТАК не передавалась. Думаю,
whiterose, у тебя было такое же чувство.
Я нарыла и проглотила все, что могла тогда найти. Примерно, что написано в статье выше.
Сегодня на меня плюхнули приведенное ниже и прихлопнули еще Бушковым.
.
Каков же был «граф» на самом деле…( из «Русского Вестника» за 2002г)
“Ежедневно куртизируя гишпанскую красавицу, приметил я предприимчивый характер ее, честолюбие неограниченное, которое при пятнадцатилетнем возрасте уже только одной ей из всего семейства делало отчизну ее неприятною” — разве так говорят о предмете великих и возвышенных чувств?
В тайных донесениях домой министру коммерции графу Румянцеву командор описал связь с 15-летней девочкой весьма откровенно и недвусмысленно: они вместе, но “отнюдь не по пылкой страсти”.
Изможденный. Почти лысый. С зубами, изъеденными цингой, и кровоточащими деснами. С уродливой походкой, искривленной подагрой. Худое тело покрыто мелкой шелушащейся сыпью.
Именно таким летом 1806 года увидела Кончита своего прекрасного принца.
К моменту приезда Резанова в Америку и их знакомства с Кончитой положение Николая Петровича нельзя было называть прочным, а настроение — радужным. Вместе с Иваном Крузенштерном он был назначен начальником первой кругосветной экспедиции россиян в 1803 году.
Крузенштерн управлял судами на море, Резанов — на суше. Целью экспедиции было не только доплыть до Америки, но и установить дипломатические отношения с закрытой тогда Японией. Николай Петрович должен был стать официальным посланником там.
Но команда корабля наотрез отказалась принять сухопутную власть Резанова. Морские офицеры не жаждали подчиняться ему. “Чем этот Резанов известен? Чем знаменит?” — роптали моряки.
То, что они знали о Резанове, авторитета в их глазах ему отнюдь не прибавляло: из обедневших дворян, несостоятельных и незначительных, зато женился на дочке иркутского миллионщика, купца Григория Шелихова. Получил после смерти тестя Русско-американскую торговую компанию и 935 700 рублей капитала. Уломал остальных наследников и объединил под единым началом разрозненные ранее промысловые фирмы.
Проще говоря, стал олигархом в нарождающихся российско-американских коммерческих связях. Хитер, однако. И весьма ловок. С юных лет подвизается при императорском дворе, служил при канцелярии самого Гаврилы Романовича Державина, еще в детстве льстивые письма тому писал.
Да и первый раз браком Резанов сочетался наверняка тоже по расчету и лести. Жена его, купчиха Анна Григорьевна Шелихова, в 15 лет ее взял, и девяти лет в замужестве не прожила, сгорела в родовой горячке.
А Николай Петрович, вместо того чтобы рыдать на супружеской могиле, тут же принял предложение императора участвовать в кругосветном плавании. В оснащении экспедиции непосредственное участие принимал — в том числе и на шелиховские деньги приобретены были два брига — “Нева” и “Надежда”.
За это, наверное, он и тайный императорский циркуляр получил — управлять шхунами и моряками наравне с Крузенштерном. Разве ж можно такое настоящим гардемаринам стерпеть?
Характер у Николая Петровича действительно был не из легких. Он даже не попытался наладить дружбу с экипажем — был сам по себе.
Во время плавания все офицеры “Надежды” вели дневники, многие из них для потомков не интересны — слишком сухи. Но вот Ермолай Левенштерн, участник экспедиции, красочно описывал скандалы между Резановым и командой шхуны. Оказывается, Николай Петрович был страшным матерщинником. Он требовал беспрекословного послушания себе и при этом нормативно с людьми не общался.
Самая невинная его фраза — прямо как у нашего президента: “Я тебя посажу головой в нужник”. Только, заметьте, было это двести лет назад, когда дворянский этикет ценился превыше всего, а представители голубых кровей беседовали между собой исключительно по-французски и на “вы”.
Власть Николая Петровича на корабле не признали не только офицеры, но и простые матросы. Над ним издевались, ему плевали в спину. И он отвечал взаимностью. Своего слугу Сашку Резанов лупил смертным боем за любую провинность. Наутро выкидывал его из каюты, помятым и взъерошенным. Доставалось и Крузенштерну.
Как-то Резанов чуть не арестовал адмирала за неповиновение собственной персоне.
Команда демонстративно прекратила разговаривать с командором. В портах Резанов беседовал только с девицами легкого поведения. А вернувшись на палубу, скрывался от ненавидящих его подчиненных в темной каюте. Там он просидел половину пути до Японии.
Единственный человек, осмелившийся прервать этот бойкот, лейтенант Головачев, покончил с собой. Команда его затравила, и парень не выдержал, застрелился. Вот вам и “дедовщина” XIX века.
Все бы ничего, авось, и смог бы преодолеть внутренние разногласия экипаж “Надежды”, но японская миссия Резанова закончилась полным провалом. Император Страны восходящего солнца дары России не принял и общаться с командором не пожелал.
Проторчав в порту Нагасаки полгода, с октября 1804-го по апрель 1805-го, русские мореплаватели вынуждены были убраться восвояси. Неуспех экспедиции приписали высокомерию Николая Петровича.
А вот еще поворот, до которого не додумались поэты.
Личный врач Резанова, доктор Георг фон Лангсдорф. Любитель зоологии. Ему чуть за двадцать. Хорош собой и прекрасно говорит на испанском. Перед помолвкой именно он, не жених, проводит с Кончитой дни. Он переводит ей обязательные любовные признания командора. И весело играет с чужой нареченной в подвижные игры на свежем воздухе.
Резанов гневается, но терпит. В конце концов, когда будущая испанская родня приходит с визитом на русский корабль, командор устраивает Лангсдорфу обструкцию.
Резанов демонстративно вышвырнул за борт чучела птиц и зверей, которые собирал доктор Георг для своей зоологической коллекции. Под предлогом того, что тушки воняют. И золотокрылого дятла выбросил — про него доктор рассказывал Кончите...
“Все, что делалось им для меня после этого, только изнуряло меня, — напишет Лангсдорф позже, став российским консулом в Бразилии. — Я утратил бумаги, на которых высушивал экспонаты... и окончательно воспротивился приказанию камергера фон Резанова...” “Честь имею!” — доктор Георг отказался выполнять функции переводчика и личного врача командора.
Последний преданный человек покинул Резанова.
Для того чтобы спустя полгода, в марте 1807-го, упав с лошади и ударившись головой, командор умер от скоротечной горячки в Красноярске.
Надлежащей медицинской помощи ему оказано не было.
Надо сказать, что обет верности Кончита дала всего на два года. О гибели Резанова Мария Аргуэльо узнала как раз года через два, никакие 35 лет в бессмысленном ожидании его она не провела, это выдумки.
Министр коммерции Румянцев написал о смерти посланника правителю российских колоний Америки, а тот сразу же сообщил об этом отцу Кончиты. Письмо хранится в Москве, в Российском архиве древних актов.
боем за любую провинность. Наутро выкидывал его из каюты, помятым и взъерошенным. Доставалось и Крузенштерну.
Как-то Резанов чуть не арестовал адмирала за неповиновение собственной персоне.
Команда демонстративно прекратила разговаривать с командором. В портах Резанов беседовал только с девицами легкого поведения. А вернувшись на палубу, скрывался от ненавидящих его подчиненных в темной каюте. Там он просидел половину пути до Японии.
Единственный человек, осмелившийся прервать этот бойкот, лейтенант Головачев, покончил с собой. Команда его затравила, и парень не выдержал, застрелился. Вот вам и “дедовщина” XIX века.
Все бы ничего, авось, и смог бы преодолеть внутренние разногласия экипаж “Надежды”, но японская миссия Резанова закончилась полным провалом. Император Страны восходящего солнца дары России не принял и общаться с командором не пожелал.
Проторчав в порту Нагасаки полгода, с октября 1804-го по апрель 1805-го, русские мореплаватели вынуждены были убраться восвояси. Неуспех экспедиции приписали высокомерию Николая Петровича.
А вот еще поворот, до которого не додумались поэты.
Личный врач Резанова, доктор Георг фон Лангсдорф. Любитель зоологии. Ему чуть за двадцать. Хорош собой и прекрасно говорит на испанском. Перед помолвкой именно он, не жених, проводит с Кончитой дни. Он переводит ей обязательные любовные признания командора. И весело играет с чужой нареченной в подвижные игры на свежем воздухе.
Резанов гневается, но терпит. В конце концов, когда будущая испанская родня приходит с визитом на русский корабль, командор устраивает Лангсдорфу обструкцию.
Резанов демонстративно вышвырнул за борт чучела птиц и зверей, которые собирал доктор Георг для своей зоологической коллекции. Под предлогом того, что тушки воняют. И золотокрылого дятла выбросил — про него доктор рассказывал Кончите...
“Все, что делалось им для меня после этого, только изнуряло меня, — напишет Лангсдорф позже, став российским консулом в Бразилии. — Я утратил бумаги, на которых высушивал экспонаты... и окончательно воспротивился приказанию камергера фон Резанова...” “Честь имею!” — доктор Георг отказался выполнять функции переводчика и личного врача командора.
Последний преданный человек покинул Резанова.
Для того чтобы спустя полгода, в марте 1807-го, упав с лошади и ударившись головой, командор умер от скоротечной горячки в Красноярске.
Надлежащей медицинской помощи ему оказано не было.
Надо сказать, что обет верности Кончита дала всего на два года. О гибели Резанова Мария Аргуэльо узнала как раз года через два, никакие 35 лет в бессмысленном ожидании его она не провела, это выдумки.
Министр коммерции Румянцев написал о смерти посланника правителю российских колоний Америки, а тот сразу же сообщил об этом отцу Кончиты. Письмо хранится в Москве, в Российском архиве древних актов.
ЮНОНА» И «АВОСЬ» под черным флагом
Трогательная история о чистой и светлой любви, воспетая в нестареющем мюзикле «Юнона и Авось», выглядит настолько искренней и настоящей, что в зрительском восприятии вот уже третий десяток лет сценический вымысел неотделим от исторических реалий: мы убеждены, что все на самом деле так и было со славными героями в жизни. Увы, 200 лет назад на самом деле было не так. Причем настолько «не так», что в исторической памяти нашего ближайшего соседа - Японии - «Юнона» и «Авось» по сей день остаются «черной меткой» и вместе со своими командирами поминаются как символ разбоя
ЗЛОПАМЯТНЫЙ РЕЗАНОВ
В 1799 году указом императора Павла I и под его патронажем была создана Российско-американская компания (РАК), которая получила в наследство от умершего к тому времени Г. Шелихова, известного российского предпринимателя, обширные владения на Американском континенте и Дальнем Востоке. Председателем РАК был назначен зять Шелихова, граф Николай Петрович Резанов, обер-прокурор первого департамента Сената. Человек решительный и энергичный, имевший влиятельные связи и пользовавшийся высочайшим покровительством, он решил заняться «заморскими территориями» всерьез и начал с того, что снарядил первую русскую кругосветную экспедицию на судах «Надежда» (командир Крузенштерн) и «Нева» (командир Лисянский). Среди задач, которые предстояло решить Н П. Резанову, одной из самых сложных был вопрос об установлении с Японией дипломатических и торговых отношений. В те времена Япония была закрытой страной и не допускала иностранцев в свои пределы, опасаясь насильственной колонизации.
26 сентября 1804 года Н П. Резанов на «Надежде» прибыл в Нагасаки. Однако японцы встретили нежданных гостей настороженно и на постоянные контакты с Россией на государственном уровне не пошли. После полугода проволочек Резанов покинул Нагасаки с пустыми руками. Японская неудача избалованного успехом графа сильно задела.
Досада оказалась настолько сильной, что Резанов принял решение добиться цели любой ценой. По его указанию был куплен у американского предпринимателя фрегат «Юнона» и построен тендер «Авось», командирами которых он назначил работавших в РАК по контракту флотских офицеров лейтенанта Хвостова и мичмана Давыдова, которых снабдил секретной инструкцией.
Граф дал следующие указания: «Войти в губу Анива и, буде найдете японские суда, истребить их, людей, годных в работу и здоровых, взять с собою, а неспособных отобрать, позволить им отправиться на северную оконечность Матмая (так именовали остров Хоккайдо. - А К.). В числе пленных стараться брать мастеровых и ремесленников.
Что найдете в магазинах, как то: пшено, соль, товары и рыбу, взять все с собою; буде же которыя будут ею наполненными и одаль строения, таковых сжечь…
… Обязать на судне вашем всех подписать, чтобы никто не разглашал о намерении экспедиции сей и чтоб исполнение ея в совершенной тайне было…»
ДОБЫТЧИК ХВОСТОВ
Фрегат «Юнона» достиг губы Анива 6 октября 1806 года, и Хвостов высадился на берег. Островитян задобрили подарками и «разными безделицами, а на старшину селения надели лучший капот и медаль на Владимирской ленте».
К медали была придана грамота на русском языке: «… Российской фрегат «Юнона» под начальством флота лейтенанта Хвостова в знак принятия острова Сахалин и жителей онаго под всемилостивейшее покровительство Российского Императора Александра Первого старшине селения лежащего на восточной стороне губы Анива пожалована серебряная медаль на Владимирской ленте. Всякое другое приходящее судно как российское, так и иностранное просим старшину сего признавать за российского подданного».
Ввиду того что русские пришельцы и аборигены из-за незнания языка общались едва ли не знаками пантомимы, сахалинские айны вряд ли поняли процедуру награждения и посвящения их в российское подданство. Впрочем, их понимания никто и не спрашивал.
Затем Хвостов отправился знакомиться к японцам: представился, что он русский, и просил его не бояться. Японцы в свою очередь представились, а затем, как пишет Хвостов, «потчевали нас пшеном и вместо ложек дали палочки, которыми ни один из нас есть не мог». Хвостов с юмором поясняет, что не смогли они есть палочками «еще более потому, что видели много японских сараев и думали, ежели они со пшеном, то и после успеем».
Далее события развивались стремительно. Семь матросов с веревками в руках окружили японцев и схватили их, после чего налетчики занялись добычей.
Хвостов в отчете подчеркивает, что прямо оторопел от обилия хранящихся на японских складах товаров и, «чтобы не терять времени даром, приказал из магазина, который наполнен был пшеном, таскать оное на суда».
Учинив разбой, Хвостов не забыл и аборигенов, которым «в поощрение» отдал на разграбление один «наполненный» магазин в оплату за то, что они помогли в погрузке японских товаров.
Когда добычу размещать на «Юноне» уже было негде, коренным сахалинцам позволили брать из японских магазинов все, что они захотят.
Русские посланцы подожгли потом три японских сарая, в которых хранился заготовленный строевой лес, доски и рыболовные снасти. Пожар стал быстро распространяться и грозил перекинуться на расположенное вблизи селение айнов, так что морякам пришлось его тушить. Увидев такое старание команды фрегата, которая спасла юрты аборигенов от уничтожения, последние от испуга пришли в себя, «поднимали руки кверху, радовались и скакали».
Оценивая вышеописанные разбойничьи действия российских моряков, наша официальная историография выдает такую картинку: «6 октября Хвостов прибыл в залив Анива. После обследования побережья русские раздали айнам часть продуктов из японских складов… В одном из селений возник пожар. Хвостов юрты природных жителей во время пожара защищал своими людьми». Прямо хоть плачь от умиления — так самоотверженно вели себя российские моряки.
«Чтобы нанести более вреда японцам», Хвостов приказал сжечь кроме складов еще и японские магазины, казарму и кумирню. Глава русской миссии по установлению отношений с соседней страной с удовольствием отметил в отчете, что «островитяне помогали в сем очень усердно» и что «позволенным расхищением японских богатых магазинов привязал сердца их к россиянам».
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАВЫДОВ
Планируя вторую экспедицию весной 1807 года, Хвостов уже сам инструктировал младшего по положению и званию: Давыдов на «Авось» должен следовать в губу Анива на соединение с «Юноной», выждать сутки, и если к этому времени «Юнона» еще не подойдет и если «увидите, что магазины их изобилуют грузом, начинайте с помощью Божией поступать, как сказано в инструкции его превосходительства…».
Как следует из судового журнала Давыдова, 4 мая 1807 года «Авось» покинул Камчатку, и 19 мая, завидев японское поселение на берегу острова Итуруп, мичман приступил к установлению торговых отношений с соседями в соответствии с инструкциями. Его встретили два японца и пригласили войти в дом, где угощали рисом, копченой рыбой и курительным табаком. Такой прием тронул Давыдова и в этот день «отклонил от всякого неприязненного поступка». Но настал новый день, к мичману с «Авось» подоспел лейтенант на «Юноне», и «неприязненные поступки» пошли косяком.
Давыдов пишет, что, после того как миссионеры запалили всю японскую факторию, захваченные «бедные японцы перепугались и спрашивали, не будут ли их резать». Резать не стали, так как пленные поделились с гостями ценной информацией, руководствуясь которой Хвостов с Давыдовым начали капитальную зачистку всего острова. Сопротивление встретили только в одном месте — японцы малым числом открыли стрельбу, но их быстро отогнали ответными залпами с российских кораблей.
Посланцы доброй воли с удовлетворением обнаружили в японских закромах богатую добычу: «12 или 13 магазинов избышествовали пшеном, платьем и товарами всякого роду».
Добро начали свозить с берега на суда, но тут возникла типовая отечественная трудность, которую мичман описывает так: «… Все шло хорошо до того времени, како люди добрались до саги (то есть саке), а тогда многие из них перепились и с ними труднее было обходиться, нежели с японцами... Можно сказать, что все наши люди сколько хороши трезвые, столько же пьяные склонны к буйству, неповиновению и способны все дурное учинить».
Встревоженный пьянством подчиненных, глава миссии Хвостов отдал приказ возвращаться всем на суда. Однако этот приказ было не так просто выполнить: при сборе людей не смогли отыскать трех человек с «Юноны» и одного с «Авось».
Давыдов недоумевал потом: «… С каким намерением решились они остаться в таком месте, где русские все выжгли и где они уверены быть истязанными, попавшись в руки японцам?»
Нагрузившись награбленным, «Юнона» и «Авось» 16 июля 1807 года прибыли в Охотск. Однако здесь Хвостова и Давыдова встретили неласково: русские пираты были арестованы за лихоимство, против них начато следствие. Подследственные, однако, сумели бежать из-под стражи и добраться до столицы. Н П. Резанов к тому времени умер, но и без него влиятельные покровители при дворе разогнали тучи над головой миссионеров — их пожурили за самоуправство и горячность да и отправили служить на флот. Эта строгость с лихвой была покрыта деньгами: министр иностранных дел и коммерции граф Румянцев 2 августа 1808 года обратился с рапортом к Александру I оплатить жалованье и все расходы Хвостову и Давыдову, в том числе связанные с бегством из Охотска в Санкт-Петербург, в сумме 24 000 рублей за счет вещей, награбленных у японцев.
О результатах своего ходатайства перед царем 9 августа 1808 года граф Румянцев сообщал морскому министру П В. Чичагову: «.. Его Императорское Величество повелеть изволило сего дела (имеются в виду пиратские набеги на японские селения. — Прим. А К.) им в вину не ставить; и вместе с тем изъявил высочайшее соизволение, чтобы за время бытности их в сей экспедиции удовлетворены они были жалованьем на счет вывезенных ими японских вещей и товаров...»
Вскоре комендант порта Охотск подполковник Бухарин, пытавшийся наказать Хвостова с Давыдовым за бандитские «художества», со службы был уволен. Он оставил после себя список награбленных у японцев вещей, конфискованных на «Юноне» и «Авось» в 1807 году. В этом перечне 173 наименования товаров. Из основных изъятых «трофеев»: «пшена белого без мешков чистого — 2283 пуда и 26 фунтов; солоду — 11 пудов и 5 фунтов; соли — 266 пудов и 36 фунтов; саги — 100 ведер; тож в бочонках — 16 штук…».
Правда, в своей жалобе на Бухарина Хвостов указывает, что груз уже на родине был пограблен своими: «Из... товаров на сто тысяч рублей едва ли найдется и половина целого, все разграблено, переломано и вряд ли есть какое-нибудь состояние людей в Охотске, которые бы не имели японских вещей».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Осенью 1809 года в Санкт-Петербург приехал американский судовладелец Вульф, у которого РАК в свое время приобрела фрегат «Юнона». 14 октября Хвостов и Давыдов посетили американца на Васильевском острове, в гостях засиделись и не успели вовремя вернуться на Петроградскую сторону. Разудалость и хмель сыграли с ними плохую шутку: попытка превозмочь обстоятельства и перескочить через разводившийся мост оказалась для приятелей трагической — они утонули в холодной Неве.
Корабли «Юнона» и «Авось» ненадолго пережили своих бывших командиров: в следующем году у берегов Камчатки и Аляски они погибли с экипажами во время шторма.
В Японии фамилии Хвостова и Давыдова на слуху по сей день. Поминают их нехорошо
...
whiterose:
» Елизавета Петровна
Москвичка, поздравляю с повышением

и....
долгожданная Елизавета 


Села я писать обещанное эссе о Елизавете и поняла, что все равно буду сравнивать ее с Екатериной. Очень уж они различны, да и царствовали одна за другой (в одну эпоху).
Елизавета – моя любимая императрица. Конечно, на фоне Екатерины Великой она теряется: веселая, ленивая, жадная до удовольствий (балы, маскарады, охоты). На маскарадах Елизавета Петровна (ЕП) обожала демонстрировать свою прекрасную фигуру и рядилась в мужской костюм, она крестила солдатских детей и варила щи, была суеверна и не разрешала в своем присутствии произносить слово «смерть». Она обожала наряды и даже был издан указ, что ввозимые в страну ткани должны сначала быть привезены ко двору, чтобы императрица выбрала подходящие себе на наряды, а остальное уже поступало в продажу. «Веселая Елисавет», но была ли она так пуста и глупа, какой порой ее представляют перед нами историки и авторы романов?
При Елизавете не было войн (кроме Семилетней, да и та велась за пределами России), императрица отменила смертную казнь, за время ее правления был открыт первый университет, первая таможня, доходы государства выросли в 3 раза. Я нашла одно очень интересное высказывание философа 19 века: «Есть в истории русской эпохи боевой славы, великих напряжений, громких деяний, блеска и шума в мире. Кто их не знает? Но есть и другие… Таково царствование Елизаветы Петровны. Об них мало говорят историки, но долго помнит народ, над их летописью засыпают дети. Но задумываются мужи
Как бы сейчас сказали, Елизавета пользовалась своим имиджем блондинки. Она взошла на трон с помощью денег Франции (которой не нужны были немцы на троне) и Швеции (которая мечтала вернуть себе земли, завоеванные Петром). Веселая ветреная цесаревна, хохотушка, лентяйка и не любящая забивать себе голову умными вещами, идеально подходила на роль «послушной куклы». Что же получилось в итоге? Став правительницей, самозабвенно флиртуя с Шетарди (французским послом), Елизавета выслала его из России, а также отказалась возвратить Швеции Эстляндию и Лифляндию. Предаваясь с наслаждением охоте, балам, праздничным обедам, не зная удержу в танцах, новая императрица САМА подписывала все указы, исправляла и вносила дополнения в документы, внимательно следила за иностранными новостями.
И вот здесь мы подходим к сравнению: Екатерина-Елизавета. Екатерина – политик, Елизавета – женщина.
Екатерина как человек была неблагодарной, она использовала людей. Где оказался Орлов, Потемкин, Дашкова? Забыты, умерли в забвении. Не смотря на все их недостатки, они все же были личностями в отличие от Платона Зубова – последняя страсть старой императрицы (и смешно, и выглядит жалко). В противовес этому встают отношения Елизаветы и Разумовского, с которым дочери Петра удалось до конца жизни сохранить дружбу. До конца своих дней Елизавета не забывала Разумовского, к которому обращалась в письмах «нелицемерный друг» и, уже будучи увлечена другими, приезжала к нему в гости на обед или пообщаться просто как к другу. И Разумовский отплатил ей тем же – он не подтвердил свой брак, когда после смерти ЕП потребовали подтверждающий документ. Он просто разорвал бумагу и бросил ее в огонь: просто, красиво и благородно. Последняя привязанность Елизаветы – Иван Иванович Шувалов, покровитель Ломоносова, ценитель искусства, так же как и Зубов, был моложе императрицы. Но после смерти покровительницы поступил куда более мудрее и достойнее Зубова. Он покинул Россию и не участвовал в заговорах и интригах (как это сделал позднее Зубов после смерти Екатерины).
Есть три произведения, которые практически не расходятся в описании и оценке деятельности ЕП и ее окружения, в т.ч. наследника Петра, молодой Елизаветы, Бестужева, Лестока. Они различны между собой, но очень яркие. Это Манштейн «Записки о России», Пикуль «Пером и шпагой» и Соротокина с 4-я романами о гардемаринах. Оценка Соротокиной молодой Екатерины очень мне близка (я с ней согласна). Екатерина, как только освоилась в России, сразу стала исподволь вести свою игру, налаживать связи, вербовать «своих» людей. ЕП ее не любила Екатерину, но отдавала должное ее уму и прекрасно видела дурость племянника. Все она понимала, эта императрица-лентяйка. Отношения двух женщин очень напоминают схему «свекровь-невестка».
Семилетняя война… не могу обойти стороной этот вопрос – мою боль. Наши войска дошли до Берлина и взяли его в 18 веке, а потом опять подарили Фридриху… за так… Я не говорю о том, что мы вели завоевание, нам и земли эти были не нужны, мы были всего лишь союзнической державой, мы ввязались в эту войну как партнеры… мне хотелось плакать из-за того, как бесцельно погибло столько наших солдат, ни за что, просто так. В угоду чужим странам и лишь для того, чтобы через несколько дней просто взять и подарить Берлин обратно Фридриху (без контрибуций и вознаграждений). А солдаты… да у нас еще найдутся… Ужасно. Ах, Елизавета, как не вовремя ты умерла. Ты бы ТАКОГО не допустила.
Закончить свое эссе я хочу словами Валентина Пикуля («Пером и шпагой»)
Цитата:Елизавета, которая так и умерла, не слишком-то доверяя картам, где королевство Англии рисовалось в окружении воды, — вряд ли она понимала все величие своего времени.
Но она была «дщерь Петрова», и это во многом определяло ее поступки. Елизавета зачастую двигалась на ощупь — зато хорошо осязала предметы.
Историки дружно изругали ее за гардероб из 45000 платьев, однако не забыли отметить и устойчивый патриотизм этой сумбурной натуры.
Конференция при русском дворе работала, и отныне голос Елизаветы, весьма авторитетный в Европе, был лишь эхом коллегиальных решений. И надо сказать, что последние годы ее жизни этот голос звучал сильно и верно.
Мой любимы портрет Елизаветы, где она просто ЖЕНЩИНА (причем симпатичная такая дама)

...
RedQueen:
froellf писал(а):А я, вроде, в телевизионном варианте Караченцова с Шаниной видела в Юноне...Да...Больше всего поразило как она пела: Не родись мой сын...Очень тяжело смотреть было...
miona писал(а):Да, целиком и полностью согласна. Первый состав- Шанина,Караченцов, Смеян, Абдулов... Им УДАЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ В Р Е М Я.
вот
тут тема по Юноне и Авось. Есть даже отрывки из спектаклей разных времен.
...
Москвичка:
Мавлюда, спасибо за презенты! Прям, как угадала - обожаю корабли вообще, а парусники - в особенности.

(В связи с этим, кстати, хочется и об Ушакове, и о Нахимове... А какой, оказывается, интересный корабль "Аврора"! Ой, где б время взять...)
whiterose ! Тысяча благодарностей! Прочитала с удовольствием.
Признаться, я тоже Екатерину недолюбливаю, а Елизавета всегда мне была симпатична. Может, именно потому, что при всём своём величии оставалась женщиной.
Скачала Манштейна, почитаем...
...
miona:
» Польский вопрос в 18 веке
К сожалению, не получилось для наглядности прикрепить карты, надо будет с Женей этот вопрос обсудить.
Тема оччень горяча и по сей день.
"Польский вопрос"
В 1763 г. умер польский король Август III, посаженный на
престол еще Анной Иоанновной. Между магнатскими
группировками началась ожесточенная борьба за власть.
Страна раздиралась внутренними противоречиями. Власть
осуществлял сейм. Делегаты от местных сеймиков имели на
нем право "либерум вето", т.е. каждый депутат мог
опротестовать любое решение собрания. Очень острыми были в
стране и национальные противоречия. Входившие в ее состав
народы Украины и Белоруссии находились под жестоким
социально-экономическим и национальным гнетом польской
шляхты.
После борьбы между магнатскими группировками Потоцких и
Чарторыйских победили последние - сторонники пропрусской
ориентации. На престол был посажен их родственник, давний
знакомый Екатерины Станислав Понятовский. Его
правительство постаралось провести в разваливавшейся
стране ряд реформ, однако эти попытки вызвали ожесточенное
сопротивление со стороны других группировок шляхетства.
Было использовано право конфедерации, то есть создания
вооруженной оппозиции. Сторонники реформ в г. Баре (на
Украине) создали свою конфедерацию. Екатерина послала
против них войска во главе с Суворовым. Россия всячески
старалась усилить свое влияние в Польше. На этом пути она
оказалась в весьма сложных отношениях с Пруссией. Большие
успехи России в борьбе с Турцией заставили Пруссию
выступить совместно с Австрией в польском вопросе, с тем
чтобы умерить требования России на юге. России был
невыгоден раздел Польши и усиление за ее счет таких
государств, как Пруссия и Австрия. Польша более устраивала
Россию как буферное государство на границе с более
сильными соседями. Но в сложившейся ситуации Россия
вынуждена была пойти на раздел Польши. Один догоаор был
заключен между Россией и Пруссией, другой - между Россией
и Австрией. Оба они были подписаны в июле 1772 г. Под
давлением двух держав в сентябре 1773 г. польский сейм
санкционировал соглашение о первом разделе Польши. Россия
получила все Подвинье и часть Верхнего Приднепровья,
воеводства Полоцкое, Витебское, Мстиславское, часть
Минского и часть польской Ливонии. Австрия захватила
Западную Украину - Галицию.
В 70-80-х годах XVIII в. вопрос о Правобережной Украине
все теснее связывался с вопросом о дальнейшем продвижении
России к Черному морю, а это в свою очередь с новой силой
порождало русско-турецкий конфликт. Вся внешняя политика
России завязывалась в сложный балтийско-польско-восточный
узел. Усилившаяся мощь России позволяла Екатерине II
оказывать весьма сильное воздействие на весь ход
внешнеполитических отношений в Европе. Во время
вспыхнувшей между Австрией и Пруссией войны за баварское
наследство Екатерина выступила в качестве третейского
судьи. Закончивший эту войну Тешенский мир 1779 г.,
условия которого гарантировала Екатерина, привел к
значительному усилению влияния русской дипломатии на весь
ход дел в Германии. Выдающуюся роль сыграла Россия и в
событиях, связанных с войной американских колоний за
независимость. Россия отклонила попытку Англии
использовать ее силы для ведения войны в Америке. Более
того, в феврале 1780 г. она опубликовала декларацию о
"вооруженном нейтралитете". Декларация провозглашала, что
всякое нейтральное судно находится под защитой всех
нейтральных государств и имеет право защищать себя на море
оружием. Ответственность же за насилие над нейтральными
судами падают на суда нападающих держав. К этой декларации
присоединилось большинство государств.
В это время происходит изменение основного курса внешней
политики. Натянутые отношедия с Англией, охлаждение в
отношениях с Пруссией - все это привело к падению
"Северного аккорда". Начинается процесс сближения с
Австрией, заложенный со встречей Екатерины II в 1780 г. в
Могилеве с австрийским императором Иосифом II. Меняются
даже фигуры во внешнеполитическом ведомстве. На смену
графу Никите Ивановичу Панину приходит Алексайдр Андреевич
Безбородко - талантливый дипломат и государственный
деятель. Большую роль во внешней политике начинает играть
князь Григорий Александрович Потемкин, фаворит Екатерины.
Меняется и основная концепция внешней политики. Рождается
так называемый "греческий проект". Предполагалось изгнать
турок из Европы, а на территории бывшей Османской империи
создать греческую империю во главе с представителями
русского правящего дома. Из дунайских княжеств - Молдавии
и Валахии - должно было быть образовано новое буферное
государство (носившее древнее название - Дакия). Основным
союзником предполагалась Австрия, за что она и должна была
получить под свое влияние западную часть Балканского
полуострова. Ученые до сих пор не решили, был ли
"греческий проект" реальной внешнеполитической программой
или это была лишь иллюзия, плод размышлений придворных
теоретиков. Скорее всего, правы те исследователи, которые
утверждают, что реального проекта внешней политики России
80-х годов XVIII в. ("греческого проекта") не
существовало.
Как бы то ни было, дело шло к новой войне с Турцией. Б
1783 г. Россия присоединила к себе Крым, что, конечно же,
вызвало недовольство правительства Турции. Демонстративно
не выполняя условий Кучук-Кайнарджийского договора, Турция
сама объявила войну. Положение России в скором времени
осложнилось выступлением Швеции. Король Густав III начал
осаду крепости Нейшлот и предъявил России явно
невыполнимые требования. Но оборона Нейшлота и блестящая
победа русского флота в июле 1788 г. у Готланда над флотом
шведов заставила шведское правительство пойти на
заключение мира.
Россия добилась выдающихся успехов в войне с Турцией. Под
руководством А.В.Суворова была взята крепость Очаков,
турки были разбиты при Фокшанах и Рымнике. Одна из
наиболее ярких страниц этой войны - взятие крепости
Измаил. Но измена Австрии и шведская опасность заставляла
Россию быть осторожной. В 1791 г. был подписан Ясский мир,
по которому Турция обязалась неуклонно выполнять условия
предшествующего мира, признала новую границу с Россией по
Днестру и присоединение Крыма.
В Польше после первого раздела влияние России значительно
усилилось. В этой стране начинает нарастать движение за
укрепление экономики и политического строя путем реформ.
Ряд позитивных мер предпринял сейм 1788 г., получивший
название четырехлетнего сейма. 3 мая 1791 г. этот сейм
принял новую конституцию, отличавшуюся известной
прогрессивностью. Но для улучшения жизни низших слоев
населения, особенно украинского и белорусского
происхождения, было сделано мало.
В Польше скрестили свои "дипломатические шпаги"
представители внешнеполитических ведомств России, Пруссии,
Австрии. Трудно сказать, кто кого превосходил в коварстве,
но для самой Польши события разворачивались драматически.
Летом 1791 г. русские войска, принимавшие участие в войне
с Турцией, были переброшены в Польшу. Тут же в г.
Тарговице возникла конфедерация, к которой присоединился и
польский король. Царские войска вскоре взяли Варшаву.
Конституция 3 мая была отменена, а в марте 1793 г.
произошел второй раздел Польши. К России отошли Белоруссия
с Минском и Правобережная Украина. Пруссия захватила
Гданьск (Данциг), Торунь и Великую Польшу с Познанью.
Оставшаяся часть Польши с населением в 4 млн человек была
окружена со всех сторон сильными и враждебными ей
государствами, которые навязывали ей свои условия. Это
вызвало патриотический подъем. Вскоре одна из частей
польского войска восстала. Центром восстания становится
Краков, а его главой талантливый генерал Тадеуш Костюшко.
Он занял Варшаву. Вскоре восстание перекинулось в Литву,
Великую Польшу и Поморье. Однако значительная часть
крестьянства была разочарована теми мерами, которые
предпринял Костюшко, что значительно ослабило его силы.
Русские войска под началом А.В.Суворова разгромили
польские войска. Вначале 1795 г. был проведен третий
раздел Польши, уничтоживший самостоятельное польское
государство. Большая часть земель Польши с Варшавой была
отдана Пруссии, Малая Польша с Люблином отошла к Австрии.
Россия получила Литву, Западную Белоруссию и Западную
Волынь. Курляндское герцогство, находившееся в зависимости
от Речи Посполитой, также было присоединено к России.
Присоединение старинных русских земель к России было
логичным, так как сохраняло национальную целостность
восточнославянских народов. Впрочем, отношения царского
правительства к Украине и Белоруссии не надо
идеализировать, помятуя о той иной раз насильственной
русификации, которая нанесла большой вред развитию
национального самосознания. Что же касается Польши, то это
была трагедия польского народа, который на столетия был
лишен своей государственности и стал добычей соседних
государств.
Значительной проблемой внешней политики России конца XVIII
в. были ее отношения с революционной Францией. Длительное
время среди советских историков господствовало мнение, что
правительство Екатерины II было инициатором и активным
организатором контрреволюционной кампании против
французской революции. Екатерина не решалась принять
участие в прямой вооруженной интервенции против
революционной Франции по причине незавершенности своих дел
относительно Турции и Польши. Так что вклад
екатерининского правительства в борьбу с революционной
Францией был гораздо скромнее, чем это принято было
думать. В основном он свелся к тому, что Екатерина дала
приют в России бежавшим из Франции аристократам.
»
ПОЛЬСКИЙ ГОНОР И РУССКАЯ ЧЕСТЬ.


 Речь Посполитая на марше: восемь веков имперского строительства
Речь Посполитая на марше: восемь веков имперского строительства
Польшу и Россию связывает многовековая непростая история взаимоотношений. Древнерусское и польское централизованные государства возникли практически одновременно примерно тысячу с лишним лет тому назад. Вопреки распространенному в польской исторической публицистике образу «страны-жертвы», поляки с самого начала ощутили себя «имперской нацией», готовой воевать ради расширения собственной территории. Еще на заре польской государственности они успели «погостить» в Киеве и Праге – с явным намерением сделать Киевскую Руси и Чехию вассалами польской короны. Древняя польская столица Краков также была «позаимствована» поляками у чехов, которым пришлось уступить город воинственным северным соседям. После того, как Русь была обращена в руины монгольскими ордами, строительство польской империи вообще пошло сверхскоростными темпами. Путем сложных дипломатических и военных комбинаций Польша передвинула свои границы на сотни километров на Восток. Украинцы и белорусы попали под власть польских магнатов, а затем едва не настал и черед русских: в начале XVII века Польша едва не завоевала и саму Россию, воспользовавшись многолетней русской смутой. После восстания Хмельницкого и неудачной войны с Россией Польша была вынуждена вернуть России Киев, но продолжала владеть огромной территорией, две трети которой занимали завоеванные земли. В середине XVIII века, когда в Европе вовсю распространялись идеи Просвещения, польские карательные силы топили в крови восстания украинских крестьян, устраивая пленным жуткие средневековые казни. Прошло уже почти восемь веков польской имперской истории, и никаких признаков «народа-жертвы» все еще не наблюдалось на горизонте. Скорее наоборот – польская шляхта ощущала себя «расой господ», правящей миллионами «культурно-неполноценных» холопов. Однако к концу восемнадцатого столетия силы Речи Посполитой стали иссякать. С этого момента и начинаются те самые исторические обиды, которые дают о себе знать и по сей день.
Польская мечта о границах 1772 года
Для того чтобы сделать современному читателю более понятной гипертрофированную реакцию поляков на исторические события ХХ века нам придется вернуться назад почти на 250 лет во времена Екатерины II. Раздираемая внутренними противоречиями Речь (или по-польски Жечь) Посполита захлебывалась в междоусобных распрях польской шляхты, эгоистично использовавшей в собственных интересах уникальный принцип liberum veto. Не имеющий аналогов в других странах этот принцип требовал единогласного принятия решения польским сеймом по любому вопросу и позволял любому депутату сейма наложить вето на дальнейшую работу сейма по обсуждаемому вопросу. Принцип liberum veto был задуман как средство борьбы с коррупцией: предполагалось, что среди всех подкупленных королем депутатов всегда должен оказаться хотя бы один неподкупный депутат, который может воспользоваться этим правом. В результате в течение XVII-XVIII веков работы сейма прерывались 73 раза, что сделало польский шляхетский парламент совершенно недееспособным. В 1764 году Екатерина II «назначает» польским королем своего любовника и отца своей дочери Анны Станислава Августа Понятовского, который занял польский престол после смерти короля Августа III Саса.
Для исполнения важной тайной миссии по передаче польского престола в руки своего ставленника Екатерина направляет в Польшу доверенных лиц – графа Германа Карла фон Кейзерлинга и Николая Репнина. Русские дипломаты получают от Екатерины подробнейшие инструкции о задачах и способах проведения «спецоперации» по передаче власти в Польше новому королю, «благородному человеку, которого надлежит заверить, в том, что пока он будет под нашей опекой и протекцией, никому не удастся отобрать у него корону». Документ, написанный Екатериной собственноручно по-французски, впечатляет глубиной историко-политического анализа польско-российских отношений, детальностью проработки мельчайших деталей «спецоперации», включая даже столь «не царские» подробности, как тайные способы финансирования миссии через торговый дом Клиффорда из Амстердама.
Тайная миссия Кейзерлинга и Репнина увенчалась успехом. Станислав Август Понятовский был посажен на польский трон. Произошел первый раздел Польши на основе секретного соглашения между Австрией, Пруссией и Россией. Россия завладела Ливонией и Белоруссией, присоединив к империи 92 тысячи квадратных километров и 1 200 000 новых подданных. Собственно поляков на новых территориях было абсолютное меньшинство. Благодарный Станислав Август Понятовский даже прислал своей благодетельнице, Екатерине Великой, древний трон польских королей. Трудно ручаться за подлинность исторических анекдотов, но при российском дворе сплетничали, что императрица обошлась с ним весьма непочтительно: велела вырезать дыру в сидении и подставить под него ночной горшок.
В 1793 году Пруссия и Россия разделили между собой еще одну часть польской территории, а в 1795 году бывший фаворит Екатерины отрекся от престола и Польша перестала существовать как самостоятельное государство – остатки ее территории разделили между собой Австрия, Пруссия и Россия.
Включение Польши в состав Российской империи вызвало рост антироссийских настроений в польском обществе и породило национально-освободительное движение, выплеснувшееся знаменитым восстанием Костюшко в 1794 году, подавленным российскими войсками. Впрочем, самого польского героя, попавшего в плен, отпустили на все четыре стороны. Затем Александр Первый в подачи своего приятеля Адама Чарторыйского решил воссоздать польскую государственность. Его не смутило даже то, что с началом наполеоновских войн в Европе поляки приняли активное участие в них на стороне французов, поверив в обещания Наполеона Бонапарта предоставить самостоятельность Польше, и вместе с французскими войсками дошли до Москвы. Разгромив Наполеона, Александр Первый объявил о воссоздании Царства Польского, находящегося в унии с России, и даже собственноручно отредактировал новую польскую конституцию. Однако поляков все это, разумеется, совершенно не устраивало. Польская элита мечтала только об одном – восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года. Именно под этим лозунгом проходили восстания 1830 и 1861-1863 годов, и, надо сказать, среди образованных людей России многие сочувствовали повстанцам. А вот русским царям было не до сантиментов: ведь в Варшаве считали, что граница России должна была проходить по линии Псков-Смоленск-Киев и далее по Днепру! Договориться с польскими лидерами на каких-то иных условиях, чем «границы 1772 года» было решительно невозможно.
Пилсудский: цель остается прежней
Польша оставалась в составе Российской империи вплоть до Февральской революции 1917 года, когда состоялась сначала фактическая независимость Польши, а затем после капитуляции Германии и подписании 11 ноября 1918 года Компьенского мира власть в Польше была уже официально передана Юзефу Пилсудскому, вернувшемуся из немецкого плена создателю Польских Легионов, воевавших на стороне Германии. После того, как Россия весной 1917 года согласилась предоставить Польше независимость, немецкое командование потребовало от польских легионеров принести повторную присягу кайзеру Вильгельму. Пилсудский приказал своим солдатам отказаться от присяги кайзеру, и был интернирован немцами в крепости Магдебург. Так после 150 лет политического небытия возникло независимое польское государство.
Пилсудский был человеком, фанатично преданным идее польской независимости – естественно, все в тех же пресловутых границах 1772 года. Конечно же, он ненавидел Российскую Империю, и уже в двадцать лет впервые был арестован за участие в подготовке убийства императора Александра III в Вильно, был сослан в Сибирь, где провел четыре года. Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Пилсудский даже предпринял весьма экзотический шаг, отправившись в Японию предлагать свои услуги японскому генеральному штабу в организации антироссийского сопротивления в тылу империи силами польских повстанцев в обмен на финансовую помощь. Исторические аналогии, конечно, вещь опасная, но уж очень всё это напоминает сотрудничество русских революционеров с немецким генеральным штабом ровно через десять лет после дальневосточного вояжа Пилсудского.
Источник...
miona:
» Родословное древо Российского Императорского Дома
Мавлюда писал(а):Девченки!!!!! Давайте какую нибудь новенькую тему, а????? А то у нас опять затишье какое то.... Я подготовлю завершающую статью о царской семье, а вы подумайте!!!!

http://www.imperialhouse.ru/rus/history/persons/tree.html - это о ком - завершающую?
 http://www.imperialhouse.ru/rus/history/persons/morganatic.html
http://www.imperialhouse.ru/rus/history/persons/morganatic.html - а что об этих скажешь?

А век-то 18 еще идеет...
Вон Москвичка, умничка, столько вопросов накидала, любо-дорого!
У меня, к сожалению, пока постельный режим, тем наобещала, чес слово, все расскажу


...
Москвичка:
» Суворов и гибель польской государственности
miona писал(а):Тема оччень горяча и по сей день. "Польский вопрос в 18 веке и по сей день..."
Я тоже так считаю. И внесу свою лепту в рассмотрение истории польского вопроса. Меня, правда, всегда интересовала здесь не только политика как таковая, но и фигура легендарного А.В. Суворова - человека не только гениального, но и благородного. И благородство его проявилось достаточно ярко в период известных польских событий.
Сначала хотела было дать ссылочки на статью в журнале "Национальная безопасность" (http://www.psj.ru/saver_national), но потом всё же тоже решила спрятать под спойлер - чтоб никому долго не искать.
«Россия традиционно почитает Суворова, который в нашей истории отличился с самой худшей стороны, и это не единичный случай. Для нас Суворов является чрезвычайно негативной фигурой, однако в современной истории есть много персонажей с обагренными кровью руками, от которых Россия не отмежевалась, так как это потребовало бы от нее пересмотра собственной истории», – считает Мачей Мачейовский (Maciej Maciejowski), член городского совета от партии PiS. Он скептически оценивает молчание варшавского руководства: «У меня нет сомнений, что они, скорее всего, не придут. В противном случае они бы уже ответили на приглашение. Стоит добавить, что до сих пор нет соответствующего монумента в память жителям Варшавы, ставшим жертвами резни, имевшей признаки геноцида, им поставлен лишь скромный крест».
«При этом в Варшаве продолжают стоять памятники Красной Армии и советским солдатам», – добавляет Павел Лисецкий (Paweł Lisiecki), другой член городского совета района Прага-север от партии PiS. Инициатива должна принадлежать органам самоуправления, которым нужно было бы принять специальное постановление, но окончательное решение о возведении памятника и месте его размещения должен принять Отдел по архитектуре, подчиняющийся Городскому управлению. «Пусть сначала примут постановление, потом можно будет говорить о разрешении», – отвечают чиновники.
Лисецкий заявляет, что он готов внести такое предложение на очередном заседании районного совета.
По мнению историков, действия России имеют целью распространение ее варианта исторической политики. «Россияне стремятся к тому, чтобы собрать воедино различные события, формирующие фундамент их имперской политики, которую они декларируют как полезную и верную. Они часто играют на антипольских струнах, а все для того, чтобы подчеркнуть военное превосходство современной России», – говорит историк Мечислав Рыба (Mieczysław Ryba).
Истребление мирного населения варшавской Праги имело место 4 ноября 1794 года, когда российские силы под командованием генерала Александра Суворова сломили сопротивление польской обороны. В результате длившейся несколько часов волны убийств погибло около 20 тысяч человек. Эта атака подавила левый берег Варшавы и склонила столицу к капитуляции. Тогдашний британский посол в Варшаве назвал убийство мирных жителей отвратительным варварством, а царица Екатерина II в честь победы учредила орден – Крест за взятие Праги».
Оставлять без ответа такую политически заострённую версию событий 1794 года мы не имеем права. Поэтому придётся снова поговорить о гибели Речи Посполитой и об участии Суворова в истории государства Польского.
Суворов участвовал в польской войне 1768-1772 годов. Крепко бил конфедератов. Память о Суворове среди поляков после Ландскроны и Кракова стала легендарной. Русский генерал, хозяйничавший в Люблине, разбивший Дюмурье, Пулавских и Огинского заставил себя помнить и уважать. Громкие победы русского генерала над турками сделали его имя в Польше общеизвестным – и оно действительно наводило ужас на противников России. Из русских и немецких генералов, воевавших в Польше в 1770-е-80-е, Суворов отличался бережливым отношением к мирным обывателям и рыцарским уважением к таким благородным врагам, как Пулавские. Но к 1790-м политическая ситуация существенно изменилось, изменился и принцип взаимоотношений России и Польши. Причина метаморфозы – фактор Великой Французской революции.
Речь Посполитую раздирали конфедерации. В неразберихе конкуренции политических группировок страна потеряла единство управления. Этот самоубийственный угар шляхты, перекинувшийся и в массовый обиход, продолжался несколько десятилетий, а французская революция дала польским бунтарям новый сильный импульс.
Позволю себе отступление: на взгляд из ХХI века, эпоха распада Речи Посполитой удивительно напоминает современную ситуацию на Украине. Да, это была оранжевая Польша Славянские страны с противоречивым отношением к могучей соседке-России. Калейдоскоп политических витий, использующих народные волнения для борьбы друг с другом, непримиримые противоречия между регионами и много громких, пьянящих слов – свобода! Родина! Европа! И вечный Майдан. Польский «оранжад» три века назад привёл страну к катастрофе. Конечно, различий здесь не меньше, чем сходства, но историческая аналогия просматривается.
Революция вызревала в тайне, а наружу прорвалась, когда русский генерал Игельстрём, командовавший войсками империи, пребывавшими в Польше, начал роспуск польских войск. Игельстрёму не хватало дипломатических дарований, но польское свободолюбие и без внешних раздражителей рвалось из теснин государственного кризиса. Генерал Антоний Мадалинский не подчинился, выступил из Пултуска со своими кавалеристами. К нему присоединялись другие отряды. Мятежный корпус напал на русский полк, затем – на прусский эскадрон, разбил их и с триумфом отошёл к Кракову. Тут же в Польшу, в Краков явился Тадеуш Костюшко, признанный вождь революции. на рыночной площади Кракова он произнёс свою клятву и был избран главным начальником восстания: это событие навсегда останется культовым в истории Польши. Военный инженер по образованию и революционер по призванию, он уже воевал против русских в рядах барских конфедератов, после чего сражался за океаном, в армии Джорджа Вашингтона, от которого получил генеральское звание. В 94-м, на волне революции, он примет звание генералиссимуса – за пять лет до Суворова!
Чтобы разобраться в природе тогдашнего русского отношения к Костюшко, достаточно процитировать екатерининский рескрипт Суворову от 24 апреля: «Граф Александр Васильевич! Известный вам, конечно, бунтовщик Костюшко, взбунтовавший Польшу, в отношениях своих ко извергам Франциею управляющим и к нам из верных рук доставленных, являет злейшее намерение повсюду разсевать бунт во зло России». Не в первый раз назревала слаженная международная кампания против России: кроме Польши, удар могли нанести турки и шведы. Очередная война с турками месяц за месяцем назревала. Надо думать, решительность Костюшко была подкреплена этими обстоятельствами (как и золотом «Парижской конвенции»).
Костюшко стремился привлечь к восстанию широкие слои крестьянства, превратить революцию из офицерской в народную. Манифесты – универсалы Костюшко пугали шляхту, были, может быть, слишком радикальны. Участники восстания освобождались от панщины, получали личную свободу. Польша – не Франция, и решающим в событиях 94-го был всё-таки националистический, а не социальный фактор. Офицеры были готовы вести свои отряды за свободу от русских и немцев, а не за конституционные права, не за республику. Король Станислав-Август в этой ситуации занял двусмысленную позицию. Он был многим обязан Екатерине, всем была известна его пророссийская позиция, но в роковые дни король не мог занять откровенно антипатриотическую позицию. Восставшие не могли забыть, как безропотно король следовал высокомерным предписаниям Репнина, как превращался в марионетку. Теперь Станислав-Август пытался сотрудничать с Костюшко, не искал антиреволюционных тайных связей с русскими и пруссаками. Тем временем, в Варшаве говорили о традициях французской революции, действовали якобинские клубы, с кафедр возносилась хвала Робеспьеру. Король в такой ситуации не мог чувствовать себя комфортно.
Но Костюшко не стал разжигать антимонархический костёр; борясь с иноземцами, он искал компромисса в отношениях с королём-поляком. Революционный Верховный совет отдавал Станиславу-Августу знаки почёта. В то же время, Костюшко заключил короля в своеобразную блокаду, контролируя его переписку и передвижения. Когда Станислав-Август посетил строительство пражских укреплений на подступах к Варшаве, горожане оказали ему весьма холодный приём. Кто-то даже бросил дерзкую фразу: «Лучше уйдите отсюда, ваше величество, всё, за что вы берётесь, заканчивается неудачей». Борясь против польской армии, против инсургентов, русские генералы, а в первую голову – Суворов, к королю относились с подчёркнутым почтением. Традиция и реальность в этой истории существовали как будто в параллельных реальностях. Уничтожая польскую государственность, русские монархисты, ненавидевшие революцию и республику, склоняли голову перед Станиславом-Августом, не припоминая ему заигрывания с генералиссимусом Костюшко…
Игельстрём пребывал в Варшаве с восьмитысячным корпусом, тем временем Костюшко успешно сражался с русскими армиями Тормасова и Денисова под Рославицами. Бурлила и Варшава. Инсургенты решили атаковать русских воинов в страстную субботу. Для Игельстрёма это стало неожиданностью. Это был трагический день для русской армии, величайшее потрясение екатерининской России. Четыре тысячи солдат и офицеров было убито, остальные с потерями отступили из Варшавы к Ловичу. Прискорбные подробности того для возмутили русское общество: говорили, что один из батальонов Киевского пехотного полка перерезали в православном храме, во время службы. Король попытался сгладить ситуацию, предлагал выпустить русских из города, но в тот день его не слушала даже собственная гвардия. 6 апреля 1794 года осталось в истории как варшавская Варфоломеевская ночь.
Побоище русского гарнизона случилось и в Вильне. Гарнизон генерала Исленьева был перебит и пленён: многих поляки застали врасплох во сне. Части гарнизона удалось выбраться из города: эти войска добрались до Гродно, на соединение с отрядом генерала Цицианова. Этому неунывающему, решительному и изобретательному воину удалось предотвратить аналогичный погром в Гродно: Цицианов пригрозил при первой попытке восстания ударить по городу артиллерией. Угроза возымела действие. Не случайно Суворов порой ставил в пример офицерам храбрость Цицианова. Но гродненский эпизод был редким успехом русских в первые месяцы восстания…
Петербург принимал меры. После второго раздела Польши (1793) на присоединённых территориях был образован пятнадцатитысячный корпус бывших польских войск, принятых на русскую службу. Под влиянием событий в Варшаве в этих войсках разгорелось восстание. И императрица, разумеется, издала указ о расформировании бывших польских войск: «Худая их верность сказалася уже побегом многих из них и явными признаками колеблемости».
Дела союзников в Польше шли прескверно. Костюшко превосходно организовал оборону Варшавы – и осада окончилась для русско-прусского корпуса провалом. Уничтожение небольших польских отрядов, суетливые марши по окраинам Речи Посполитой не приносили успеха. И дипломатия, и военные в Петербурге пребывали в растерянности: польская проблема представлялась критической, и залечить эту кровоточащую рану, казалось, было нечем. Авторитет империи был поколеблен энтузиазмом Костюшко и польским католическим национализмом – и горячие головы уже проводили аналогию с французскими событиями, а тут уж для Северной Паллады было недалеко и до сравнений с судьбой несчастного Людовика…
Затянись война – и в случае турецкой агрессии Россия оказалась бы в отчаянном положении. Общее командование разбросанным по городам русским 50-тысячным корпусом осуществлял князь Н.В.Репнин, давний проводник русской воли в Речи Посполитой. Довести до ума намерение уничтожить революцию ему не удавалось – и Репнина уже бурно критиковали и царедворцы, и офицеры. Потому-то Екатерина и обратилась к старому испытанному полководцу и дипломату, к графу Задунайскому. Можно предположить, что именно Румянцев посчитал эффективным использовать в Польше Суворова – генерала, перед которым поляки трепетали. Любопытно, что польские патриоты, чтобы ослабить гипноз суворовского имени, ещё в 1790-м пустили слух, что генерал-аншеф Александр Суворов, граф Рымникский, погиб при штурме Измаила. Тогда русская миссия в Варшаве даже выступила со специальным опровержением, но слух утвердился. И теперь поляки утешались иллюзией, что у границ Речи Посполитой расположился с войсками не тот Суворов, а его однофамилей. Только после гибели корпуса Сераковского сомневающихся в Польше не осталось: Суворов снова был тот самый.
8 июля Суворов с небольшим отрядом прибывает в Немиров. Он помогает войсками русским частям в Польше, но сам никак не может дорваться до боевых действий. Война с Турцией никак не начиналась… В бурной послереволюционной обстановке бездействие казалось Суворову роковой потерей времени. От отчаяния он пишет прошение императрице (кроме того, аналогичное письмо Суворов посылает влиятельному П.Зубову): «Вашего императорского величества всеподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтёром к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию». Письмо это не встретило понимания – и Суворов так и не стал в 94-м году грозой революционных армий.
Тем временем, Петербург убедился в том, что на турецкой границе в ближайшее время сохранится мир, а польские дела требовали более серьёзного вмешательства. Широкий размах восстания отвлёк силы союзников от Франции и непосредственно угрожал западным окраинам Российской империи. Наконец, Суворов был назначен командующим армией, направляемой в Польшу. В письме Суворову Румянцев прямо определил мотивацию назначения: «Видя, что ваше имя одно, в предварительное обвещение о вашем походе, подействует в духе неприятеля и тамошних обывателей больше, нежели многие тысячи». Румянцев, в отличие от Репнина, умел видеть кратчайший путь к победе.
14 августа Суворов выступает из Немирова с небольшим 4,5-тысячным корпусом в сопровождении лёгкого обоза – с этого-то дня и начинается знаменитая польская кампания 94 года. К сражениям Суворов готовится, скрупулёзно просчитывая варианты развития событий, составляя пространный Приказ войскам, находящимся в Польше, о боевой подготовке. Весь опыт прежних кампаний – и польской, и турецких, и кубанской – отразился в этом блестящем руководстве.
Суворов движется к Бресту, соединяясь с новыми вверенными ему корпусами. В Ковеле, 28 августа, к армии присоединился корпус генерала Буксгевдена. На марше из Ковеля на Кобрин к Суворову должны были присоединиться войска генерал-майора Ираклия Моркова, который не раз надёжно выполнял боевые задания Суворова – в том числе и в критической ситуации, на Кинбурнском мысе и под Измаилом. Суворов, как правило, сохранял уважительные отношения с генералами-соратниками, которых видел в деле, которыми был доволен. Увы, в случае с Морковым это правило не подтвердилось. 30 августа Суворов написал Моркову резкое письмо, отчитав его за трансляцию неверных сведений о противнике: «Доносили вы, будто неприятель из Люблина подсылал свои партии под самый Луцк, не именовав в сём доношении сих вестовщиков. Я вам замечаю сие, как непростительное упущение, по чину и долгу вашему требую от вас разъяснения А то сии курьеры, неизвестно от кого отправлены были и вами пересказываемое слышали, видя, что подобные тревожные известия от неприятеля нередко рассеиваются». Суворов с раздражением увидел в поступке боевого генерала бабью склонность к сплетне и не сдержал гнева. Возможно, у Суворова были и иные претензии к Моркову. После такой головомойки 44-летний генерал почёл за благо сказаться больным и отпросился у Суворова долой с театра боевых действий.
В конце августа случились первые стычки казаков (в авангарде шёл отряд казачьего бригадира Исаева) Суворова с передовыми польскими отрядами, 4 сентября суворовский авангард разбивает крупный отряд конницы Сераковского, а 6-го поляки дали Суворову первое серьёзное сражение кампании – при Крупчицах.
Войска Сераковского заняли удобную позицию с Крупчицким монастырём в тылу; пять хорошо укреплённых батарей прикрывали фронт. Бой с Бржеским корпусом генералов Мокроновского и Сераковского продолжался более пяти часов. Поляки потеряли убитыми до трёх тысяч из семнадцатитысячного корпуса и в беспорядке отступили, как писал Суворов, к Кременцу Подольскому, а обосновались в Бресте. Потери русских убитыми и ранеными не превышали 700 человек.
Через два дня Суворов настигает шестнадцатитысячное войско Сераковского у Бреста. Цель Суворова была проста и ясна: уничтожить, рассеять, показать остальным противникам, что сопротивляться российской армии бесполезно. В час ночи 8 сентября суворовцы перешли вброд речку Мухавец, а в пятом часу утра – Буг – в обход польских позиций. Пехоты Суворов расположил в центре, по флангам – конницу: правое крыло – под командованием Шевича, левое – Исленьева. Центральной колонной командовал Буксгевден. Дежурным генералом при Суворове был координировавший общее командование генерал Потёмкин – глаза, уши и правая рука Суворова в брестском сражении.
Сераковский ждал нападения со стороны Тересполя. «Неприятель быстротою наших движениев был удивлён», – пишет Суворов. Русские полки через болота, выполняя приказ «Патронов не мочить». Преодолев сумятицу, Сераковский меняет направление фронта; он выстроил свою пехоту в три колонны, артиллерию расположил между ними. Русская атака, как обычно, не смутилась артиллерийским огнём и потеснила колонны Сераковского. Три польские колонны организованно отступили к более удобным позициям: они заняли высоты за деревушкой Коршином. Идти на приступ высот было затруднительно. С левого фланга ударила конница Исленьева. Две атаки полякам удалось отбить, с третьей Исленьев захватил несколько орудий и нанёс сильный урон польской пехоте. Подоспела и быстрая атака егерей. Сераковский предпринял отступление к лесу. С правого фланга, под артиллерийским и ружейным огнём, в атаку пошла кавалерия Шевича. Целая батарея неприятелей была изрублена.
Поляки сражались стойко, к бегству прибегли слишком поздно – и потому на поле боя пали едва ли не все. Пали с честью.
Суворов был доволен трудами своих войск и генералов. Его восхитила кавалерия, уничтожившая плотные колонны Сераковского – лучших польских солдат. «В первый раз по всеподданнейшей моей… более 50-ти лет службе сподобился я видеть сокрушение знатного, у неприятеля лучшего, исправного, обученного и отчаянно бьющегося корпуса – в поле! На затруднительном местоположении», – живописно докладывал Суворов Румянцеву. Особенно выделял он за Крупчицы и Брест генерал-майора Исленьева и генерал-поручика Потёмкина: «Генерал-майор Исленьев, отправляя должность при мне главного дежурного, с отличными трудами и похвалою, особливо в обеих баталиях при Крупчиц и Бржесце, пособил весьма победам его благоразумными распоряжениями. Сей беспримерной храбрости генерал с левым крылом нашей кавалерии тотчас в карьере пустился в атаку, изрубил часть задней колонны и конницы, её закрывающей, с содействием казаков под толь неустрашимым бригадиром Исаевым, бывши в двух огнях между колонн и пехотной засады с пушками, которая вся изрублена. Напоследок дорубили и докололи они её, паки устроенную за деревнею Коршин», – это об Исленьеве. «Генерал-порутчик Потёмкин был всеместной директор атак! Сей муж великих талантов превзошёл себя в сей знаменитый день», – это о Потёмкине. Сражение продолжалось девять часов – до трёх часов дня. В тот день погиб практически весь корпус Йозефа Сераковского – спастись удалось сотне поляков, включая бежавших с поля боя генералов Сераковского и Понятовского. Третий генерал – Красинский – погиб. Следующие два дня казаки добивали в лесах неразоружившихся. «Недорубленный лес снова вырастает». Вся артиллерия Сераковского – 28 орудий с зарядными ящиками – оказалась в руках Суворова. Путь на Варшаву был открыт.
В рескрипте императрицы говорилось о награждении за победы при Крупчицах и Бресте: «посылаем вам алмазный бант к шпаге, жалуя при том три пушки из завоёванных вами». В послужном списке Суворова вместо «банта к шпаге» фигурирует «бант к шляпе». По-видимому, здесь в высочайший рескрипт вкралась ошибка.
Убитыми и ранеными русские потеряли под Брестом около тысячи человек. Суворов 10 сентября на панихиде, по традиции, произнёс слово о павших, затем в Бресте обошёл раненых. После Бреста Суворову непосредственно подчиняют три доселе самостоятельных русских корпуса, действовавших в Польше – Ферзена, Дерфельдена, Репнина. Теперь армия Суворова насчитывала до 30 000.
Тем временем, корпус Ферзена, шедший на соединение с Суворовым, при Мацеевицах был встречен польскими войсками. Костюшко стремился не допустить соединение русских войск. Решающий удар полякам нанёс казачий отряд генерал-майора Ф.П.Денисова, о чём Суворов с удовольствием отписал Румянцеву и Рибасу: «томная» деятельность Ферзена и Дерфельдена в кампании вызвала нарекания Суворова, и Денисова он выделял с дальним прицелом. Девятитысячный польский корпус был наголову разбит войсками Ферзена у Мушковского замка. Пленниками Суворова стали и Сераковский, и Каминский, и – главное – тяжело раненый Тадеуш Костюшко. Знатных пленников Суворов приказал под конвоем отправить в Киев.
Приустав от недолгого отдыха, 7 октября Суворов выступил из Бреста маршем на Варшаву, оставив в городе бригадира Дивова и около 2000 человек под его командованием – для контроля над областью и прикрытия обозов.
К Варшаве повёл свой корпус и Дерфельден. В Станиславове к армии Суворова присоединяются войска генерала Ферзена. Тучи над польской революцией уже сгустились. У Кобылки авангард Суворова сталкивается с пятитысячным польским отрядом генерала Мокрановского. Суворов лично идёт в атаку с кавалерией, как и под Брестом, отрядив на фланги Исленьева и Шевича. Бой продолжился в перелесках, затруднявших движение конницы. Суворов приказывает кавалеристам спешиться, начинается сеча. Сабельная атака спешенных кавалеристов (их поддерживал единственный батальон егерей!) была предприятием поразительным. Переяславский полк при поддержке казаков обходит польские позиции, пробирается через болота и ударяет неприятелю в тыл. В итоге Суворов получил возможность честно написать в рапорте: «Неприятель весь погиб и взят в полон».
У Кобылки Суворов останавливается, разбивает лагерь. Владелец Кобылки – пожилой граф Унру – был настроен пророссийски и давно почитал Суворова. Казаки, приняв его за действующего польского генерала, под конвоем привели графа к Суворову. Суворов обнял его как старого товарища. В усадьбе графа Унру состоялся совместный дружеский обед русских и пленных польских офицеров. О тех днях сохранился милый исторический анекдот, пересказанный Денисом Давыдовым: в Кобылке «Суворов спросил у графа Кенсона: «За какое сражение получили вы носимый вами орден и как зовут орден?». Кенсона отвечал, что орден называется Мальтийским и им награждаются лишь члены знатных фамилий. Суворов долго повторял: «Какой почтенный орден!». Потом обращался к другим офицерам: «За что вы получили этот орден?». Они отвечали: «За Измаил, за Очаков и. т. п.». Суворов саркастически заметил: «Ваши ордена ниже этого. Они даны вам за храбрость, а этот почтенный орден дан за знатный род».
В Кобылке 19 октября к Суворову присоединяется корпус Дерфельдена. Вся тридцатитысячная армия теперь была собрана в кулак. Суворов уже решил судьбу Варшавы, откуда недавно ретировалась армия прусского короля Фридриха-Вильгельма… Начинаются насыщенные учения, в приказе Суворова говорилось: «экзерцировать так, как под Измаилом. Для штурма заготовлялись плетни, фашины, лестницы. Правой рукой Суворова при подготовке штурма становится верный боевой товарищ и ученик Илья Алексеевич Глухов (1762 – 1840), в то время – инженер-капитан. После победы, с подачи Суворова, о нём вовсю заговорят на высочайшем уровне.
Илья Глухов был настоящим суворовским чудо-богатырём, таких Суворов привечал и расхваливал громогласно и цветисто, чтобы стали они высокими маяками для других. Под Измаилом он был поручиком – и Суворов настойчиво хлопотал перед императрицей о награждении умелого и расторопного инженера, вникая в его судьбу даже из пасмурной Финляндии. Тогда, под стенами грандиозной турецкой крепости, Глухов был неустанным помощником главного квартирмейстера Петра Никифоровича Ивашева, произведённого в секунд-майоры за храбрость и расчётливость, проявленные при штурме Измаила. Рядом с Суворовым и Ивашевым был Глухов и при подготовке штурма пражских укреплений. В реляции Румянцеву «О штурме прагских ретранжаментов» Суворов укажет: «Пункты, на которые приступ вести надлежало, и пункты, где колонны для атаки начального сигнала ожидать должны были, поручено было указать правым четырём колоннам генерал-порутчику Потёмкину, и левым трём колоннам генерал-порутчику Ферзену, по прожекту инженер-квартермистра Глухова».
Ивашев под Прагой был уже подполковником, а в финале похода 1794 года он получит полковничий чин. После Пражской виктории Суворов так рьяно ходатайствовал за своего любимца Глухова, что Екатерина заметила в письме Гриму: «Граф двух империй расхваливает одного инженерного поручика, который. По его словам, составлял планы атак Измаила и Праги, а он, фельдмаршал, только выполнял их, вот и всё». Это о Глухове. Если Суворов так высоко ставил его искусство и не жалел красок для выражения восторгов – значит, он всерьёз считал Глухова незаменимым, доверял ему. А что может быть важнее при серьёзном штурме, чем доверие полководца инженеру. Во время Итальянского похода инженер И.А.Глухов носил уже чин полковника, он отличится при штурме Александрии. А закончит службу, как и Пётр Ивашев, в высоком для инженера чине генерал-майора.
После штурма Праги Глухов получит Георгия четвёртой степени с почётной формулировкой: «За особливое искусство, доказанное снятием плана Прагского ретранжамента для устроения батарей, тако ж и за отличное мужество, оказанное при приступе». Судьба Глухова – как судьба всей российской армии – нерасторжимо связано с подвигами Суворова. И показательно, что ученик Суворова Глухов оставался одним из лучших русских военных инженеров и в годину Отечественной войны.
Штурм Праги, вступление в Варшаву – дело архиодиозное. Европейская пропаганда именно на основании пражских событий представляла Суворова людоедом и мясником. На этой идее сходились непримиримые противники: французы-республиканцы и англичане-монархисты. Антироссийский мотив всегда ложится лыком в строку, это мы знаем и на примерах из ХХ века, да уже и из ХХI. Постараемся подробнее, на основании документов, разобрать этот – решающий! – эпизод войны 1794 года.
Преемником Костюшки Верховный народный совет избирает Томаша Вавржецкого, который прибывает в Варшаву с курляндской границы. Вавржецкий был сторонником мирных переговоров: крепкой веры в успех революции у него не было. Но он был вынужден укреплять Прагу, стягивать в Варшаву силы и готовиться к отражению штурма. В спасительность пражских укреплений Вавржецкий, принявший новую должность «с отвращением», не верил, говорил, что «Прага погубит Варшаву». Но отказаться от тактики Костюшки он не мог. На что могли рассчитывать поляки в столь отчаянном положении? Считалось, что русская армия упустила наиболее подходящее для быстрого штурма летнее время. На блокаду Варшавы сил у Суворова не было, поляки это прекрасно знали. Осень размыла подступы к городу. Осадной артиллерий Суворов не располагал, и это тоже было известно командирам варшавского гарнизона. Кроме того, в Варшаве с апреля томились 1400 русских пленных. Их судьба могла стать важным предметом переговоров.
Прага была еврейским предместьем Варшавы на правом берегу Вислы, ныне это давно переваренный большим городом район польской столицы. С Варшавой её соединял длинным мост, прикрытый укреплением. Вся Прага была обнесена старинным земляным валом, а перед ним располагался вырытый по приказу Костюшки длинный ретраншемент. На укреплениях находилось более ста крупнокалиберных орудий. Предполагалось, что при отражении штурма их поддержат батареи с другой стороны Вислы.
В приказе по Азовскому мушкетёрскому полку (аналогичные приказы Суворова получили и другие подразделения), кроме подробных тактических наставлений, были и этические: «В дома не забегать. Неприятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать; малолеток не трогать. Кого из нас убьют – Царство Небесное; живым – Слава, Слава, Слава».
Суворов донёс до нас состояние тех дней: «20 и 21 заготавливали плетни, фашины и лестницы. 22 числа все войски трёх корпусов тронулись тремя колоннами, вступили в назначенные лагерные места, от передовых окопов подале пушечного выстрела, при барабанном бое и музыке и тотчас разбили свой стан». Из соображений конспирации Суворов в первую же ночь пребывания перед Прагой приказал строить батареи. Со стороны центрального корпуса генерала Потёмкина – на 16 орудий, со стороны правого крыла, корпуса генерала Дерфельдена – на 22 орудия, с левого крыла, где располагался корпус генерала Ферзена – на 48 орудий. Именно столько пушек и было в каждом из корпусов. Суворов писал: «Батареи были построены для того токмо, чтобы отвлечь неприятеля чаять приступа».
Нечасто бывает, чтобы столь детальный план был воплощён при штурме, в угаре жестокой битвы. Но в данном случае Суворову удалось продирижировать армией, как слаженным оркестром. Суворов был убеждён, что дело решит расчетливо направленная штыковая атака. Физическая подготовка армии позволяла на это надеяться. Так и случилось. В очередной раз суворовская пехота атаковала батареи, не боясь картечи и штыковым ударом опрокинула противника. А конница Шевича и Грекова с криками «Ура» и гиганьем вовремя изобразили отвлекающую атаку, прикрывая наступление пехоты на батареи.
В пять часов утра войска двинулись на Прагу. Центральный корпус, в котором пребывал сам Суворов, формально возглавлял Потёмкин, первый помощник командующего в сражении, правое крыло – Дерфельден, левое, наступавшее с восточной стороны – Ферзен. На штурм шли семью колоннами. На штурм с Севера первыми пошли колонны Лассия и Лобанова-Ростовского они преодолевали волчьи ямы, забрасывая их плетнями, прошли ров и бросились на вал, наткнувшись на войска сторонника отчаянной обороны генерала Ясинского. В бою польский генерал был смертельно ранен, перебили и большую часть его солдат. В колонне Лассия шли три батальона гренадер любимого Суворовым Фанагорийского полка, батальон егерей Лифляндского корпуса, а в резерве – Тульский пехотный полк и три эскадрона Киевского конно-егерского полка. В колонне полковника Дмитрия Лобанова-Ростовского шли два батальона Апшеронского и один батальон Низовского мушкетёрского полка, батальон егерей Белорусского корпуса, а в резерве колонны – другой батальон Низовского полка и три эскадрона спешенных Кинбурнских драгун.
В составе пражского гарнизона воевал недавно сформированный полк еврейских гусар (легкоконный полк) под предводительством недавно произведённого в полковники Берека Йоселевича. Пять сотен гусар-иудеев в польской армии ревностных католиков, не чуждых антисемитизма – это, конечно, явление экстравагантное, достойное специального упоминания. Колонна Буксгевдена атаковала еврейских гусар в штыки, возле укреплённого пражского зверинца. Дрался полк Йоселевича храбро, но не был готов к серьёзному сопротивлению штыковым атакам суворовцев. Едва ли не все полегли в пражской крепости, бегством спасся только сам полковник, которому ещё было суждено биться в рядах победителей при Аустерлице и пасть при Коцке, в бою с венгерскими гусарами, дав жизнь поговорке «Погиб, как Берек под Коцком». В отличие от Тадеуша Костюшко, Берек Йоселевич встанет под знамёна Наполеона, борясь за права и свободы для своего рассеянного по Европе и миру народа.
Вавржецкий приказал разрушить мост, но исполнить приказ командующего под огнём русских егерей поляки не сумели. Зато аналогичный приказ Суворова будет выполнен. Польский генерал был удивлён, что русская армия не продвигалась по мосту, не стремилась к Варшаве. Напротив, был выставлен заслон, закрывший переход через Вислу. Разрушение Варшавы не входило в планы Суворова. Он рассчитывал штурмом взять Прагу и уничтожить войско противника. Беззащитная Варшава сама должна была сдаться на милость победителя. А разрушение столицы, неизбежные новые жертвы среди обывателей, новые взаимные счёты поляков и русских – всего этого Суворов намеревался избежать.
Хотя Суворову удалось избежать больших потерь, многое говорит о том, что сражение вышло ожесточённым. Смерть ходила рядом с генералами, мужественно шедшими в атаку. Под Исленьевым убило лошадь, сам он едва избежал тяжёлого ранения. Ранен в плечо Исаев… Об этом писал Суворов Рибасу: «Храбрец Ласси ранен. Потеряли мы здесь вчетверо меньше, нежели под Измаилом. Всё кипит, и я в центре. Теперь около полуночи. У нас тут тысяча и одна ночь».
Ворвавшись в Прагу, сломив первоначальное сопротивление поляков, русские войска принялись добивать противника – тех, кто не сдавался. В кровавой суматохе поляки перебирались через Вислу. До поры, до времени – по мосту, потом – и вплавь. Солдаты преследовали их ожесточённо, многие защитники Праги погибали в водах. Висла в районе Праги кишела мёртвыми телами. Это избиение поляков в занятой Праге очень быстро стало легендарным, его пересказывали с впечатляющими добавлениями: у страха глаза велики, а у ужаса – ещё больше. Суворовский солдат, столетний старец Илья Осипович Попадичев вспоминал уже в середине XIX века о кровопролитных часах рокового дня Варшавы. Он ворвался в Варшаву в колонне Ферзена, в составе Смоленского драгунского полка, которым командовал полковник (в будущем – генерал-лейтенант) Василий Николаевич Чичерин.
Полковник Чичерин при штурме Праги проявил чудеса храбрости. Драгуны шли на укрепления спешенными. Пять эскадронов повёл Чичерин на польскую батарею. Смелой атакой, грудью на орудия, они захватили батарею и взяли в плен несколько сотен поляков. О характере уличных боёв вспоминает Попадичев: «На переулке встретился с поляком. Крикнул: «Ура» и ударил его штыком. Поляк отвёл удар, а штык мой вонзился в деревянную стену. Я тащить назад… нейдёт, я туда-сюда! Казалось, что бы стоило поляку заколоть меня? А он стоял как вкопанный и приклад опустил на землю я успел вывернуть ружьё из штыка и тут же выстрелом повалил поляка. За что б мне было его убивать? Поверишь ли, как человек на штурме переменится? Тут себя не помнишь, только стараешься и бегаешь – так и ищешь, кого бы уходить». Поляки потерпели одно из жесточайших поражений в своей истории: из тридцатитысячной армии спаслось не более восьмисот человек, из четырёх тысячного ополчения – восемьдесят.
Для полной победы и занятия пражских укреплений русским войскам понадобилось три часа – действительно, летели как на крыльях в ярости атаки. И не преувеличивал Суворов, когда сообщал в реляции: «Дело сие подобно измаильскому». К спорам об ожесточении русских войск (и о взаимном ожесточении) при штурме Праги можно добавить и свидетельство самого генерал-аншефа Суворова, который к тому времени повидал немало и редко живописал кровавые картины в реляциях: «Все площади устланы были телами, последнее и самое страшное истребление было на берегу Вислы в виду варшавского народу. Свие пагубное для них зрелище привело в трепет, а подоспевшая наша к берегу полевая артиллерия столь успешно действовала, что многие домы повалила, и одна бомба, пущенная, пала посреди заседания так называемой наивысшей их рады, от чего присутствующие в ней разбежались и черепом одним, когда она лопнула, убит секретарь сей рады. Итак, будто громовой удар, разразив, разрушил тут заседание сего беззаконного судилища. От свиста ядр, от треска бомб, стон и вопль раздался по всем местам в пространстве города. Ударили в набат повсеместно. Унылый звук сей, сливаясь с плачевным рыданием, наполнял воздух томным стоном. В Праге улицы и площади были устланы убитыми телами, кровь текла ручьями. Висла обагрённая несла стремлением своим тела тех, кои, имев убежище в ней, потопали. Страшное позорище видя, затрепетала вероломная сия столица».
Итоги пражского сражения впечатляли: 104 пушки, три пленных генерала (Мейн, Геслер, Крупинский), 500 пленных офицеров. Генералы Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабовский погибли в бою. Добыча у солдат была не та, что в Измаиле. Захватили немало лошадей, которых потом пришлось сбывать за бесценок тем же пражским жителям.
24 октября Суворов пишет Румянцеву одно из самых известных своих кратких и выразительных донесений: «Сиятельнейший граф, ура! Прага наша». Даже в письме императрице Румянцев одобрительно припомнил лаконический стиль будущего фельдмаршала. На следующий день Суворов составил «Условия капитуляции Варшавы» − ультиматум для потрясённых поляков, не все из которых были сломлены кровопролитной битвой. «1-е. Оружие сложить за городом, где сами за благо изобретут, о чём дружественно условиться. 2-е. Всю артиллерию с её снарядами вывести к тому же месту. 3-е. Наипоспешнейше исправя мост, войско российское вступит в город и примет оный и обывателей под своё защищение. 4-е. Её императорского величества всевысочайшим именем всем полевым войскам торжественное обещание по сложении ими оружия, где с общего согласия благорассуждено будет, увольнение тотчас в их домы с полною беспечностию, не касаясь ни до чего каждому принадлежащего. 5-е. Его величеству королю всеподобающая честь. 6-е. Её императорского величества всевысочайшим именем торжественное обещание: обыватели в их особах и имениях ничем повреждены и оскорблены не будут, останутся в полном обеспечении их домовства и всё забвению предано будет. 7-е. Её императорского величества войски вступят в город сего числа пополудни или по сделании моста рано завтре».
На обед после боя, по традиции, Суворов пригласил пленных неприятельских офицеров, с которыми приветливо говорил по-польски.
Ночью 25-го на лодках из Варшавы к Суворову прибыли парламентёры – три депутата магистрата с посланием от короля Станислава Августа. Парламентёры выслушали суворовские условия сдачи Варшавы, которые зачитал им Исленьев: восстановить мост, по которому русские войска войдут в Варшаву, разоружить армию, которую русские готовы распустить по домам с гарантией безопасности, оружие и снаряды вывести за город, честь по чести вернуть русских пленных. Поляки были растроганы столь мягкими условиями. После взятия Праги любые условия казались мягкими… Условия были сообщены вождям революции и королю. Королю Суворов изложил их в почтительном личном письме, в котором, в ответ на сомнения короля, гарантировал «жизнь и имущество жителей» Варшавы. Станислав Август сразу согласился на условия Суворова (в которых особо говорилось: «королю – всеподобающая честь»!). но к Вавржецкому вернулся боевой дух: он желал сохранить армию и даже говорил о возможностях сопротивления. Переговоры затягивались. Суворов раз и навсегда назвал срок окончания перемирия и переговоров – 28 октября. Вавржецкий пытался тайно вывезти оружие, не сдав его русским. Горожане, не желавшие штурма, весьма агрессивно ратовали за условия Суворова, и Вавржецкий был вынужден передать диктаторские полномочия королю. Магистрат, боясь беспорядков, ратовал за скорейшее вступление русских войск в Варшаву. Суворов, стараясь держать руку на пульсе варшавских процессов, послал к королю князя и полковника Апшеронского полка Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. Посылая к королю князя, Суворов тем самым ещё раз подчёркивал своё уважение к короне. Этот родовитый русский офицер передал королю новое письмо Суворова. 28 октября русские пленные были переданы Суворову, а польская армия начала разоружение. Горожане в порыве энтузиазма строили мост через Вислу.
В Варшаву, по приказу Суворова, армия входила с незаряженными ружьями – в восемь часов утра, 29 октября. Было приказано даже не отвечать на возможные провокационные выстрелы из домов. Русские колонны входили в польскую столицу под громкую музыку, с развёрнутыми знамёнами. В хвосте первой колонны ехал Суворов. Представители городского магистрата вручили ему ключи от города и хлеб-соль. Суворов поцеловал ключи, возблагодарил Бога, что в Варшаве не пришлось проливать кровь и передал ключи Исленьеву, своему дежурному генералу. Он целовался с панами из магистрата, многим пожимал руки, был взволнован и радушен. Вот так и уничтожаются государства – после стремительных походов, кровопролитных сражений, после муторных переговоров и жарких рукопожатий с поцелуями.
Рассуждая о моральном состоянии суворовских войск (а эта проблема относительно Праги и Варшавы поднималась на щит оппонентами России аж с 1794 года!) Денис Давыдов писал: «Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы с Игельстрёмом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить своё мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова». Это правда, пражское кровопролитие произвело на Суворова такое впечатление, что солдат не желал повторения кровавого избиения поляков. По многим свидетельствам, Суворов не раз высказывал удовлетворение бескровным занятием Варшавы и даже со слезами на глазах указывал на руины Праги, не желая повторения подобного. Комендантом Варшавы был назначен отличившийся в бою быстротой напора генерал Фёдор Фёдорович Буксгевден.
Пражское кровопролитие предотвратило бойни в Варшаве, в том числе и погрома обывателей, который был очень даже возможен, давайте уж учитывать патриотический экстаз поляков и мстительные чувства многих русских, помнивших судьбу корпуса Игельстрёма. Суворов опасался перерастания войны в бойню – об этом свидетельствуют специальные пункты многих его приказов того времени. Да, после победного штурма Праги, в силу вступило понятие «святая добычь». В той или иной степени, по военным традициям того времени, взятый город всегда отдавался «на разграбление». Первая ночь после штурма принадлежала солдатам победившей армии. Можно осуждать этот обычай, но армия привыкла к нему за время русско-турецких войн, и в революционных войнах Европы наблюдается то же самое. Но этот процесс имел свои временные и моральные рамки, и Суворов как предусмотрительный полководец, держащий свою армию на высоком уровне боеспособности, железной рукой на следующий день восстанавливал дисциплину.
Отношение Суворова к пленным после пражского штурма резко контрастирует с аналогичными прецедентами того времени. Известно, что после кровопролитного штурма Яффы в 1799 году генерал Бонапарт приказал расстрелять сдавшихся в плен янычар – их было около трёх тысяч. В те же годы англичане в Индии действовали ещё мстительнее. Герцог Веллингтон, покоряя Майсурское княжество, после победы, уничтожал всех, кто с оружием в руках противодействовал англичанам – таких оказалось не менее тридцати тысяч. Суворов, уничтожив армию противника, не поднимал руку на пленных. Пленных поляков освобождали, с ними намеревались сотрудничать.
За взятие Варшавы Суворова наградил не только Петербург. Король Пруссии Фридрих-Вильгельм наградил русского полководца орденами Красного Орла и Большого Чёрного Орла. Император Священной римской империи прислал Суворову свой портрет, усыпанный бриллиантами. И весьма комплиментарное письмо, в которой назвал австрийских генералов «старыми учениками и товарищами по оружию» Суворова.
Суворов, привыкший к быстроте армейских маршей и маневров, без промедления начал вникать в социальную и экономическую реальность Польши. Уже 17 ноября, только обтерев пот битвы, Суворов пишет Румянцеву рапорт об отношении к русским в Варшаве: «Сиятельнейший граф! Сей Орловский, доброй и достойной человек, имел как бывший комендант большое попечение о наших пленных; они его благодарят. Тож Закржевский, которой единожды при народном волновании избавил благомысленных магнатов от смерти с опасностию своей жизни. Мокрановский по прибытии из Литвы в Варшаву сложил с себя начальство.
Всё предано забвению. В беседах обращаемся как друзья и братья. Немцов не любят. Нас обожают… Коммерция и все привозы отверсты, о том писал я к Гарнонкурту и королю прусскому. Его величество Прагою был восхищен, но гневен за несодействие на своих генералов». Суворов умел восхищаться с людьми: он нашёл, кем восхититься и среди поляков.
Знаменитый рескрипт Екатерины, в котором она сообщала Суворову о присвоении ему фельдмаршальского звания, овеян многими легендами. В реальности формула была такая: «Господин генерал-фельдмаршал граф Александр Васильевич. Поздравляю вас со всеми победами и со взятьем прагских укреплений и самой Варшавы. Пребывая к вам отлично доброжелательна, Екатерина».
1 декабря Суворов составляет новый знаменательный документ – гуманный приказ по войскам о взаимоотношениях с польским населением. Непростая миссия легла на Суворова. В очередном рескрипте императрицы значилось: «Справедливо в некоторое наказание городу Варшаве за злодеяния против российских войск и миссий, произведённые вопреки доброй веры и трактатов, с республикою польскою существовавших, и в удовлетворение убытков взять с жителей сильную контрибуцию, расположа оную по лучшему вашему на месте усмотрению и дозволяя собрать оную, елико возможно, деньгами, а отчасти вещами и товарами, наипаче для войск потребными. Для скорейшего и точного исполнения сего и военною рукою понуждать можете». Было в этом рескрипте и немало других строгих мер, принятие которых сделало бы миссию Суворова чрезвычайно непопулярной среди поляков. Непросто было полководцу читать эти строки. В письме Хвостову Суворов заявил, что ему «совестно» быть проводником новых карательных мер против обезоруженной Польши. Фельдмаршал был уверен, что после кампании это государство уже не представляло опасности для России и хотел отнестись к ослабленному врагу милосердно.
Разумеется, Суворов не был ненавистником Польши и поляков. Не было у Суворова подобной эмоциональной мотивации. Приписывать русскому полководцу националистический антипольский угар в пропагандистских целях начали ещё при жизни Суворова, но особенно глубоко эти стереотипы укоренились в польской литературе XIX – начала ХХ века, когда уже и понять-то было трудно имперскую этику екатерининских времён. Небылицы о расправах над пленными, об отрубании кистей рук у польских аристократов – в самую нелепую ложь люди охотнее всего верили задолго до доктора Геббельса.
Суворов с уважением, а иногда и с восторгом пишет о польских воинах, которые достойно смотрели в лицо смерти. Сказалась суворовская любознательность и в изучении польского языка, народных традиций, в подчёркнутом уважении православного генерала к католическим святыням. К пленным полякам, не проявлявшим фанатической ненависти к русским, в армии Суворова относились уважительно. Кормили наравне с русскими солдатами, можно сказать, делились скудным пайком. Репрессий против мирного населения Суворов не допускал. Узнав о мародёрстве нескольких солдат из армии Дерфельдена, Суворов едва ли не устроил показательное дело, отчитав почтенного генерала. Дерфельден строго наказал провинившихся. Комендант Варшавы Йозеф Орловский – польский просветитель, к которому Суворов питал уважение – писал пленному Костюшко: «Вас могу утешить великодушие и умеренность победителей в отношении побеждённых. Если они будут всегда поступать таким образом, наш народ, судя по его характеру, крепко привяжется к победителям». В первую очередь великодушие проявлялось в заботе о раненых поляках и дисциплинированном поведении солдат с мирными варшавянами.
Иоанн Готфрид Зейме рассуждал о Суворове: «Один из знатных казацких офицеров в Варшаве насильственно похитил к себе на квартиру польскую девушку. Была ли она весталка или нет, не в этом дело; по крайней мере, она не была публичной особой известного класса, чем казак мог бы оправдать подобный поступок. Она нашла случай на публичном параде передать фельдмаршалу бумагу и просить его об удовлетворении за позорное насилие. Полячки одарены грацией и умеют пустить её в ход в общении. Девушка была прекрасна, без чего казак и не сделал бы её своей добычей. Она говорила с увлечением и плакала. Старый Суворов поднял её, выслушав рассказ о позорном поступке, пришёл в сильный гнев и сам заплакал. Это происходило на открытой площади перед Литовскими казармами. Он позвал губернатора, генерала Буксгевдена, которого управлением жители Варшавы не очень были довольны, и горячо говорил с ним: «Государь мой! Какие неслыханные вещи происходят под глазами у вас и почти под моими! Может быть, станут обвинять меня в том! Разве вы не знаете, что ваша обязанность наблюдать за общественною безопасностью и спокойствием? Что станется с дисциплиной, когда солдат будет видеть и слышать подобные примеры?». Тут Суворов пригрозил ему, что если случится по вине его хотя малейший беспорядок, то он отправит его в Петербург и донесёт государыне».
Скептик решит, что эта взбучка Буксгевдену, как и старческие сентиментальные слёзы – лишь демонстрация человеколюбия ради популярности у поляков, ради восхищённых пересудов в европейских гостиных. Не исключено, что и подобный расчёт был в действиях Суворова, хотя XVIII век не был эпохой пиара и информационных технологий, когда каждый шаг политика взвешивается «на резонанс». Но ни одного суворовского приказа, который хотя бы косвенно можно считать провокацией мародёрства, не существует! Допусти Суворов подобную вольницу, ослабь дисциплину – и очень скоро сотни крепостных солдат стали бы примаками, дезертирами, беглыми. Между тем, в армиях Суворова такого дезертирства всегда было «по минимуму».
Необходимо сравнение судеб Варшавы и других крупных городов, покорённых во время революционных и колониальных войн того времени.
Обратимся и к свидетельствам с польской стороны. Сохранились записи Збышевского о пражских и варшавских событиях: «Во вторник, около 5 часов, москали, пользуясь густым туманом, начали атаку разом на все батареи. Наши дезертиры выдали пароль. Но всё-таки ещё мы держались…
Находившиеся на Праге войска, будучи обойдены с тылу, должны были пробиваться, большая часть их отступила по мосту в Варшаву. Правое крыло держалось долее, а затем, после мужественной обороны, повернуло за Грохов, и что там с ним и с его орудиями сделалось – неизвестно…Как только вышли из неё наши войска, разъярённый москвитянин начал её грабить и жечь. Были вырезаны все без разбора. Даже в Варшаве были слышны вопли избиваемых и роковое московское ура. Пожар начался от соляных магазинов, потом загорелось предместье у Бернардинов, наконец, запылал у моста летний дом Понинского. Всё это, вместе с воплями наших и яростью москалей, представляло ужаснейшую картину… были беспощадно умерщвлены, кроме тысячей других, мостовые комиссары: Уластовский, Дроздовский и проч. Нашлись, однако, некоторые сострадательные московские офицеры, которые хотели защитить невинных жертв, хотели остановить пожар, но все их усилия не были в состоянии сладить с разнузданными солдатами, коим был позволен грабёж».
Характерно, что Збышевский пытается принизить воинскую доблесть штурмующих, указывает на отступление основных польских сил в Варшаву и ничего не пишет об их разгроме в Праге. Память избирательна. Это вполне естественно.
Плетьми наших исследований не перешибёшь нынешней польской ненависти к Суворову. Граф Ф.Г.Головкин приводит в своих записках ответ Суворова клеветникам и ненавистникам. Этот монолог Суворов произнёс в разговоре о ложных репутациях: «Очень трудно исполнять свой долг; меня считали за варвара, при штурме Праги убито было 7 000 человек. Европа говорит, что я чудовище; я сам читал это в печати, но я хотел бы поговорить об этом с людьми и узнать от них: не лучше ли кончить войну гибелью 7 000 человек, чем тянуть дело и погубить 100 тысяч? Столько людей, которые гораздо умнее меня; очень бы желал, чтобы кто-нибудь потрудился объяснить мне это!». Сработал всегдашний тактический принцип Суворова: единовременное кровопролитие лучше продолжительного, даже если оно кажется на первый взгляд излишним. Что же касается вражеской пропаганды – с нею Суворов умел разбираться как повар с картошкой. Когда в Швейцарском походе Суворову покажут пасквиль с карикатурой на русского фельдмаршала – он прикажет размножить эту бумажку, чтобы каждый мог прочитать и убедиться в подлости хулителей.
Перед устройством зимних квартир Суворов намеревался выкорчевать революционную крамолу в Польше до основания. Вавржецкий бежал из Варшавы в ночь на 29-е, перед входом русских войск в город. Бежал, прихватив с собою скромный золотой запас революции. По всей Польше капитулировали и сдавали оружие отряды инсургентов. Корпус Ферзена проводил последнюю военную операцию кампании. Всё было кончено 7 ноября казачьим отрядом Денисова были разоружены последние части польской армии вместе с главнокомандующим Вавржецким, что позволило Суворов выдохнуть: «Кампания окончена». Он пишет в инструкции Ферзену: «Ура! – конец! Бог милостив!.. не упускать ни одного; на то казаки! Его превосходительству Фёдору Петровичу (Денисову – прим. А.З.) моё братское целование. Нарочно не пишу, право, недосуг». В кампании 94 года казаки в руках Суворова снова показали себя эффективнейшей стихией войны.
В Пруссии, в Вене, даже в Константинополе о штурме Праги говорили с восхищением. От Суворова ждали новых решительных действий против революции – предполагалось, что только такой генерал может покарать бурлящую Францию. Казаки доставили Вавржецкого к Суворову в Варшаву. Суворов был готов с миром отпустить сложившего полномочия польского командующего, если тот даст реверс. Гордец Вавржецкий, поборов колебания, сохранил лицо для будущей борьбы за Польшу, реверса не дал, и был под конвоем отправлен в Киев, откуда Румянцев направил его на берега Невы. Заметим, что все польские пленники, подписавшие реверс, получили паспорта и были отпущены с правом свободного проживания где угодно. Но далеко не все исполнили обязательства реверса не поднимать оружия против России. Генерал-лейтенант Ян Генрик Домбровский, прибывший вместе с Вавржецким, реверс выдал, но потом воевал против Суворова в Италии, во французской армии.
В Польше Суворову довелось скрестить сабли с мужественным и патриотически настроенным противником. Победа над такими выдающимися генералами будущих наполеоновских войн, как Ян Домбровский, стоит дорого. Суворов ещё разобьёт корпус Домбровского при Треббии в 1799-м. Позже были бои 1812 года, при Березине Домбровский был ранен. Сражался он и под Лейпцигом, в битве народов. А в 1814-м император Александр примет заслуженного генерала, столь часто воевавшего с Россией, на русскую службу, Домбровский получит звание полного генерала. Это был символически важный шаг. Он будет одним из организаторов армии Царства Польского в составе Российской империи. Недолго прослужил на этом посту, но для успокоения поляков этот акт был необходим.
Нечего и говорить, что последний польский монарх был личностью куда менее яркой и пассионарной, нежели революционные генералы. И роль его в решающих событиях истории Речи Посполитой нельзя не назвать противоречивой. Суворов и Станислав-Август простились со слезами взаимной грусти: оба видели плачевность дальнейших перспектив Польши. И Суворов не воспринимал этот факт как стратегическую победу России. Польская государственность лежала у ног ведущих монархий континентальной Европы; история Польши трагически прервалась. У российского фельдмаршала были свои основания для недовольства: он не одобрял усиления Пруссии и Вены с помощью русских штыков. Разделённая и обозлённая на Россию Польша становилась опасным соседом на Западе: государственность этот сосед потерял, но польский народ оставался и не считаться с ним было нельзя. Да и вообще, как убеждённый монархист, к королям относился с особым пиететом. Король остался доволен эксцентричным полководцем, который как рыба в воде чувствовал себя среди ужасов войны, но к королевскому величеству относился с восторгом, от которого Станислав-Август успел поотвыкнуть.
Арсений Замостьянов
...
Мавлюда:
Ну просто не могла не выложить эти прекрасные фото:

...
miona:
» Крым. Суворов
vetter писал(а):Не, я в этой области только читателем могу быть

И, все-таки, наверно, иногда хотелось, как переводчику и не только, узнать о каких-либо лицах и событиях?

Воот, Алена сколько всего выплеснула!

Тем ей мало! Одни предки Романовых чего стоят!Про европейские династии молчу, Лучше
Arven, наверное, мало кто справится.
Кстати, Ален, потомок Резанова почти через забор от тебя живет, в Запорожье.
Жаль, не все портреты на родословной.
Да, Москвичка, катастрофически не хватает карт.
Именем Суворова (дипломата-стратега) названа одна из площадей нашего Городского Кольца.
Вот как это было:
После заключения Кючук-Кайнарджийского мира Крымское ханство стало считаться формально независимым от Турции. Лишь в отношении религии султан оставался главой татарского населения ханства. Но турки, вопреки договору, не оставляли попыток вернуть себе Крым. Требовалось, избегая военных столкновений, пресечь турецкие посягательства на Крым. Выполнить эту миссию правительство поручило Суворову.
В апреле 1778 года он прибыл в Крым. Именно в это время Турция двинула войска в направлении Крымского полуострова, а в Черном море появился турецкий флот. Перед Суворовым встала нелегкая задача - не пустить турок в Крым и при этом не применять силу. Даже П. А. Румянцев, веривший в дипломатический талант Суворова, на этот раз сомневался в успехе дела. Он писал Потемкину: "Как господин Суворов ни говорлив и ни податлив, то не поссорились бы они (с турками. - В. Д.), а после и не подрались".
Но сомнения Румянцева были напрасны. Суворов скрытно расположил на берегах самой удобной для стоянки судов в Крыму Ахтиарской бухты (там, где вскоре будет заложен им же порт Севастополь) русские пикеты с приказанием не допускать на берег турок. Пользуясь самыми разнообразными предлогами - то ссылками на карантинные правила, то на чуму, то на засуху, русские пикеты пресекали любые попытки турок сойти на берег, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды.
На многочисленные просьбы турецких военачальников Суворов дипломатично отвечал, не скупясь на хвалебные эпитеты в адрес своих корреспондентов: "Экземпляр (то есть образец, пример. - В. Д.) вельмож Оттоманской Порты, столб великого народа магометанского, трапезондский и эрзерумский губернатор, Гаджи-Али-паша, и адмирал морского флота Гассан-паша, знаменитые и степенные приятели мои, коих конец да будет благ… Нахожу сказать мое удивление прибытию вашему в близкие к российским войскам места в такое время, когда флот ваш весь заражен смертоносной язвой (в это время в Турции была отмечена вспышка чумы. - В. Д.). Европейские узаконения вам известны: во охранение от столь предвредной заразы, учрежденный карантин не позволяет отнюдь ни под каким предлогом спустить на берег ни одного человека из ваших кораблей".
Турецкие корабли, на которых кончились запасы пресной воды, постояв еще некоторое время у крымского берега, вынужден был вернуться в Константинополь. "За вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани и от Крымских берегов воспрещением свежей воды и дров" Екатерина II наградила Суворова золотой, украшенной бриллиантами табакеркой с ее портретом.
Но на этом испытания дипломатических талантов генерала Суворова не кончились. Будучи командиром Крымского корпуса русских войск, он выполнил еще одну нелегкую миссию - вывод из Крыма христиан и поселение их в Приазовье. Этой мерой достигались одновременно две цели: крымский хан, обложивший христиан непомерными налогами, лишался значительной части своих доходов, а Приазовский край получал новые людские резервы.
В конце 1779 года А. В. Суворова вызвали в Петербург, где его приняла Екатерина II. В конце аудиенции она сняла со своего платья бриллиантовую звезду ордена Александра Невского и пожаловала ее генералу.
В апреле 1783 года особым манифестом Крым был присоединен к России. Таланты Суворова - воина и дипломата - снова понадобились на юге, чтобы привести к присяге кочевые племена. Любопытны указания генерала своим подчиненным по подготовке торжеств: "…Учинить общее собрание народных мурз, эфендиев, наджиев, агов и муллов духовных, изготовя алкоран… Сих чиновников с старшими и при них находящимися привесть торжественно к присяге по их обычаям, при восклицании, пальбе из пушек и мелкого ружья.
После того ж часу начните великолепное празднество по вкусу сих народов, прибавьте к тому приличное военное увеселение до глубокой ночи и продолжите парадирование войск по вашему усмотрению".
...
Москвичка:
vetter писал(а):Не, я в этой области только читателем могу быть

Т.е. - любитель! Ну, тогда сам бог велел... хотя бы иногда... хотя бы высказаться... хотя бы разочек не согласиться... или хотя бы вопрос задать...

О,
Миона, я поняла, почему ты не можешь картинки вставлять... Для этого тебе в активе не хватает количества сообщений, здесь такие правила. Сейчас попробую найти что-нибудь приличное. Да, карты необходимы.
___________________________________________
К статье о
Польском вопросе.
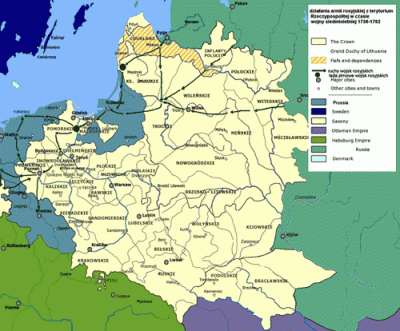
Границы Польской Речи Посполитой до первого раздела 1772 года
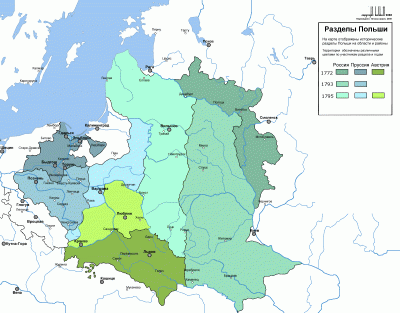
Три раздела Польши в 18 веке: 1772, 1792 и 1795 гг.
...
Мавлюда:
miona писал(а):Кстати, Ален, потомок Резанова почти через забор от тебя живет, в Запорожье.
Кстати,
Мона , я сама из Запорожья!!! Всю жизнь там с мужем пробегала, просто мы с ним в Энергодар переехали недавно(зароботки лучше, атомная станция все таки...). Я когда маленькая была кстати-кстати(лет 10-12) у нас из Запорожских школ самых лучших учеников приглашали на интервью Резанова для газет "Миг" и "Аргументы и Факты"!!!Так мы даже у него дома были....жалко его....бедно так живет, но фамильные ценности какие у него....загляденье!!!!Я просто про это случай забыла.....малюсенькая была!!!!

...
froellf:
Москвичка писал(а):А какой, оказывается, интересный корабль "Аврора"! Ой, где б время взять...)
Кхм...
Крейсер «Аврора» находится на вечной стоянке в городе Санкт-Петербурге, на набережной Большой Невки. Что мы знаем о нем? Каждый школьник ответит, что крейсер «Аврора» дал холостой залп по Зимнему дворцу, послуживший сигналом к началу его штурма. А еще? Неужели в судьбе этого корабля не было больше ничего, что заслуживает внимания?
Известно ли вам, что «Аврора» учувствовала в Цусимском сражении во время Русско-Японской, защищала нашу Родину во время Первой Мировой, оказывала помощь защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны, а после этого долгое время была учебным кораблем? Многие члены экипажа крейсера героически погибли, выполняя свой долг, защищая свое Отечество. «Аврора» - это символ мужества и непоколебимости русского народа. «Аврора» - это корабль-герой, корабль-эпоха!
20-й век как бы...

...
 Этот голос, эта игра на разрыв, потрясающие слова текста... совсем не думаешь об историческй достоверности - просто не можешь оторвать глаз от сцены
Этот голос, эта игра на разрыв, потрясающие слова текста... совсем не думаешь об историческй достоверности - просто не можешь оторвать глаз от сцены