— Можно ли чем-то кроме юбилея революции объяснить взрыв интереса к жизни России в начале XX века?
— Не уверен, что есть какие-то более глубокие мотивы. Сколько я себя помню, этот сюжет всегда был популярен. Я в какой-то момент в поездах (а я много ездил) перестал говорить попутчикам, что я историк, чтобы не объяснять: «Так почему произошла революция?» А перестал потому, что людям нужны простые ответы на очень сложные вопросы. Эта тема всегда людей цепляла, и ничего тут странного нет. 1917 год — то, что изменило лицо мира навсегда. Сейчас, поскольку за последние 25 лет в научный оборот введено много новых источников и новой информации, началось некоторое переосмысление — а нужно ли было все это, а насколько это было оправданно? А так ли было плохо в царской России?
— Как сложилось представление, что все было плохо?
— Отличный вопрос, на пару-тройку диссертаций минимум. В некотором смысле — ключевой для любых рассуждений о России после 1861 года. И наука за него всерьез не бралась — мы все там десятины и отрезки меряем.
Отталкивающий имидж имперской России, метафорой которого я всегда считал картину Репина «Бурлаки на Волге», — продукция в первую очередь народнической публицистики, которую серьезно поддержала художественная литература. Большевики, понятно, все эти подходы использовали, дополнили и исправили.
Любой непредвзятый человек, всерьез погружавшийся в источники, не может не согласиться с тем, что до 1917 года правительство было виновато во всем, кроме впадения, условно говоря, Волги в Каспий. Откуда эта презумпция виновности правительства, которая проходит через всю эпоху?
Великими реформами Александр II в числе прочего как бы извинялся за прошлое. Извинения были приняты далеко не всеми. К тому же правление Николая I капитально подорвало доверие к власти вообще. После 1861 года общество как будто мстило государству, как будто расплачивалось с ним за века предыдущей крепостнической истории, за которую Александр II определенно не отвечал.
У Маклакова есть очень сильная мысль. Радикальные реформы, подобные Великим, опасны потому, что люди от них требуют больше, чем они могут дать. То, что прежде сдерживалось, подавлялось властью, теперь выходит наружу. И когда сын Николая I открыл эру реформ, то все озлобление, которое накопилось против политики его отца, вылилось, в частности, в революционные устремления.
Левые народники (Герцен, Чернышевский и их ученики), которые были самой активной частью общества, первыми после 1861 года разыграли классический «треугольник Карпмана». «Жертвой» они назначили народ, «преследователем» — самодержавие вкупе с помещичьим дворянством и буржуазией, а роль «спасителя» отвели себе. При этом их как «профессиональных борцов с человеческими страданиями» (появился в XIX веке такой как бы официальный род занятий) не устроили бы никакие реформы, им нужна была власть. А тон в СМИ задавали именно они. И в борьбе с властью все средства для них были хороши, включая взрывчатку. В то же время большая часть дворянства была оскорблена тем, как провели реформу 1861 года. Им — в порядке компенсации — хотелось парламента.
Однако все это — часть более широкой проблемы, связанной с тем, что мы плохо понимаем людей той эпохи. Мы автоматически проецируем себя в то время и ставим на место людей того времени. Но для этого у большинства из нас нет достаточного понимания этого времени, нет достаточной суммы знаний.
Неверно трактовать людей середины XIX века как «рациональных автономных индивидов» из классического определения целей модернизации — им еще только предстояло таковыми стать. То есть нельзя отождествлять людей того времени с нами сегодняшними, как бы перемещенными на 150 лет назад.
Барская передняя и барская людская, неважно какая (хоть в Зимнем дворце), — паршивая школа нравственности. Это оттуда, по моему мнению, взялась отвратительная двойная мораль русского общества, когда царя и его чиновников можно убивать (а многие считают, что и нужно!) из-за якобы грабительской реформы, а карать убийц правительство не должно.
Многое объясняет следующая мысль [Сергея] Соловьева. Он говорит, что у всех, начиная с нового императора и его семьи, было стремление вырваться прочь из николаевской тюрьмы, но тюрьма не воспитывает людей для свободы, и поэтому нетрудно было представить, «как будут куролесить люди, выпущенные из тюрьмы на свет, сколько будет обмороков у людей от непривычки к свежему воздуху».
От тюрьмы надо было бежать, проклиная ее, поэтому неудивительно, что в прессе первым делом начались ругань, обличение и отрицание. А вот проблема созидания как-то осталась в тени, и непонятно было, а что же нужно поставить на место разрушенного.
Не нужно думать, что, получив свободу слова и реальные гражданские права, о которых русское общество до Александра II могло только мечтать, оно как бы отряхнулось и стало «нормальным». Не стало.
В 1861-м, в год освобождения крестьян, бастуют студенты, по Питеру ходят прокламации с призывами к убийству царской семьи.
 из личного архива Михаила Давыдова
— Разве не сама власть дала к этому повод?
из личного архива Михаила Давыдова
— Разве не сама власть дала к этому повод?
— Чем дала? Тем, что выпустила 23 миллиона людей на свободу? И потом, что значит — сама дала повод? Если вам что-то не нравится, надо сразу бомбу кидать?
При этом я, естественно, не хочу сказать, что власть была «белой и пушистой». Не была. Но моя задача не распределение, условно говоря, процентов вины. Нам необходимо понять и объяснить. И тут еще много работы.
— Главный сюжет вашей книги — миф о провале модернизации Витте — Столыпина. Вы можете объяснить, в чем заключалась эта модернизация?
— Автомобили и телефоны тогда были еще деликатесами цивилизации, однако модернизация создавала условия для того, чтобы не в очень далеком будущем они стали обыденностью. Суть модернизации Витте — Столыпина заключалась в первую очередь в расширении пространства свободы населения страны, то есть в дальнейшем развитии потенциала Великих реформ. Россия провела индустриализацию и начала успешную аграрную реформу, основанную на предоставлении 100 миллионам российских крестьян полноты гражданских прав; по масштабу эта реформа не имела аналогов в мировой истории. В результате в конце XIX — начале XX века Россия стала одной из самых динамично развивающихся стран в мире, имевшей наиболее высокий среднегодовой темп промышленного развития (6,65%, согласно Полу Грегори).
Рост степеней свободы населения, расширение возможностей его самореализации, увеличение числа жизненных сценариев, доступных простым людям, в конечном счете выразились в подъеме их благосостояния, который фиксируют разнообразные статистические источники, результаты обработки которых представлены в моей книге.
У Станислава Ежи Леца есть мысль, которая очень уместна здесь: свергая памятники, оставляйте постаменты — всегда пригодятся. Так вот, я не собираюсь заменять один миф другим и не утверждаю, что в царской России все было великолепно.
Я просто показываю, что все было не так плохо, как нас уверяли десятилетиями, и что благодаря расширению объема прав и свобод люди стали жить лучше, что Россия была на подъеме. Неверно трактовать революции начала ХХ века как «голодные бунты», как результат возмущения народа, доведенного до отчаяния своим безысходным положением.
Мне удалось показать и доказать несостоятельность ряда застарелых штампов традиционной историографии. Так, тезис о «голодном экспорте» хлеба не подтверждается статистикой его производства, перевозок и вывоза. Не выдержала верификации идея о росте недоимок после 1861 года как объективном показателе падения уровня жизни крестьян. Столыпинская аграрная реформа отнюдь не была «провальной», а совсем наоборот.
В книге поставлена проблема «семантической инфляции» используемых нами терминов, которая прямо влияет на наши представления о прошлом. Совершенно понятно, что в конце XIX — начале XX века в понятия «голод», «нужда», «непосильные платежи», «насилие», «произвол», которые всегда формировали негативный образ дореволюционной России, вкладывался не тот смысл, который вкладываем мы сейчас. Семантика этих терминов изменилась, потому что другой стала сама жизнь.
Сто с лишним лет аграрная реформа Столыпина считается синонимом произвола и насилия. Допустим. А чем тогда была коллективизация?
Предположим, что дореволюционная деревня была разорена. Тогда какие слова мы найдем в русском языке для характеристики колхозной деревни с законом о трех колосках, который предусматривал две меры наказания — 10 лет и расстрел?
Еще показательнее термин «голод». За исключением смертного голода 1891–1892 годов, когда б
ольшую часть жертв унесла холера (ее не умели тогда лечить), до революции слово «голод» означало неурожай, при котором правительство оказывало пострадавшим продовольственную помощь. Только в 1891–1892 годах эта помощь составила свыше 160 миллионов рублей (порядка 7,7% всего имперского бюджета). В 1891–1908 годах продовольственная помощь стоила казне около 500 миллионов рублей; напомню, что «Большая флотская программа», которая к 1930 году должна была дать России современный флот, стоила 430 миллионов. Правительство империи никогда не оставляло население на произвол судьбы.
Наши современные представления о голоде вытекают из исторического опыта советской эпохи, а он был принципиально другим и неизмеримо более трагичным. Голод при советской власти — это смертный голод с людоедством, причем, кроме 1921–1922 годов, никакой продовольственной помощи власть не разрешала. Но мы продолжаем называть одним и тем же словом «голод» и неурожай с «царским пайком», и трагедию 1921–1922 годов, и Голодомор 1932–1933 годов, и голод блокадного Ленинграда, и голод 1946–1947 годов.
Эта семантическая инфляция во многом предопределяет наше сегодняшнее восприятие имперской России как нищей отсталой страны, и эту ситуацию необходимо преодолевать, иначе мы так и будем в плену у мифологии «Краткого курса истории ВКП (б)».
Тот факт, что в конце XIX — начале XX века Россия не просто находилась на подъеме — она вступила в новый, восходящий период своей истории, крайне важен. Во-первых, он доказывает, что несостоятельна идея о том, что корни революции — в обнищании народных масс, в ухудшении положения населения в предвоенный период. Во-вторых, факт позитивного развития модернизации Витте — Столыпина означает, что Россия была способна успешно идти в сторону построения правового государства и полноценного гражданского общества. Да, этот путь был бы долгим и трудным, однако не невозможным. И уж точно не труднее, чем путь «построения социализма в одной отдельно взятой стране».
 Петр Столыпин (третий слева) во время знакомства с хуторским хозяйством недалеко от Москвы, 1910 год
Петр Столыпин (третий слева) во время знакомства с хуторским хозяйством недалеко от Москвы, 1910 год
ТАСС
— В книге постоянно повторяется формула «статистика против публицистики». Как она работает?
— Например, если публицистика говорит, что народ недоедал и голодал, а статистика показывает, что за 1904–1906 годы жители лишь двенадцати губерний из 90 — притом что для большинства из них оба года были неурожайными — выпили водки на сумму, превышающую стоимость кораблей Балтийского и Тихоокеанского флотов, потерянных Россией в Русско-японскую войну. Вот тогда я вправе усомниться в тезисе о голодании и недоедании. Если статистика ясно говорит, что в 1894–1913 годах среднегодовой прирост питейного дохода в 1,7 раза превышал среднегодовой прирост стоимости всего хлебного экспорта, а сумма питейного дохода за данный период превысила стоимость всего вывоза хлеба на 13,5%, то я опять же начинаю думать, что публицистика просто морочит мне голову. Потому что в Голодомор и в блокаду Ленинграда у людей не было выбора между едой и алкоголем.
Можно сколько угодно говорить об обнищании народных масс в конце XIX — начале XX века, однако статистика свидетельствует, что население страны за 1896–1913 годы увеличилось в 1,4 раза, число сберегательных касс — в 2,2 раза, число книжек и сумма вкладов на них — в 4,3 раза (а среди крестьян — в семь).
— Почему Столыпина не любили советские историки, более или менее понятно, а почему его с самого начала так невзлюбили современники?
— Если коротко говорить, я вижу четыре основных момента, хотя на деле их даже больше.
Первое. Уравнив крестьян в гражданских правах с остальным населением, он нанес удар всем сторонникам общины. Они получили возможность самостоятельно выбирать модус жизни, в том числе и становиться собственниками своих наделов. Программы подавляющего большинства партий исходили из наличия общинного строя, то есть из гражданского неравноправия крестьян. Теперь правительство перестало искусственно поддерживать общину, и она начала распадаться.
Второе. Он бил противников их же оружием. В знаменитой речи при открытии II Думы 6 марта 1907 года он изложил мощную программу системных либеральных реформ, которые касались практически всех сторон жизни страны. По масштабу и объему они едва ли не превосходили Великие реформы и совершенно точно были их логическим и историческим завершением. Благодаря Столыпину выяснилось, что понятия «имперское правительство» и «цивилизованный подход» (в кадетском понимании термина) вполне совместимы. И оппоненты чувствовали себя обманутыми! Ведь это они все время говорили о правовом государстве, а тут…
Третье. Он был личностью и не был флюгером. Характерно замечание одного из современников: «И вот пришел Столыпин… Он был великаном среди лилипутов». Во многом у думских златоустов это была зависть, условно говоря, первых парней на деревне, которые вдруг столкнулись с новичком, который оказался сильнее. Который умеет внятно говорить о том, что чувствует, который может защищать позицию правительства и государственные ценности с позиций объективного здравого смысла, причем нормальными доходчивыми словами и действиями.
И наконец, пресловутые «столыпинские галстуки»; за эту подлую остроту Родичев должен гореть в аду. Стреляться со Столыпиным он отказался, а позже и с Гурко отказался выйти к барьеру.
Лично для меня это один из самых отвратительных сюжетов. Подробно обсуждать эту якобы чувствительность множества образованных людей я не буду, довольно противно. Потому что жертв красного террора они странным образом не жалели. Напомню, что кадеты за всю революцию 1905–1907 годов ни единого раза не осудили красный террор, зато самозащиту правительства клеймили постоянно (только у нас они могли считаться либералами!).
Возможно, здесь в самой ясной форме проявилась двойная мораль тогдашнего общества, при которой еврейские погромы осуждаются, а аграрные именуются «иллюминациями»; красный террор оправдан, а белый — нет. Кстати, такой крупный гуманист ХХ века, как Лев Троцкий, на гибель Столыпина откликнулся статьей «Кровожадный и бесчестный»! Симптоматично, согласны?
Простите за банальность, но нет хороших погромов и нет хорошего террора. Однако у нас и в начале XXI века это не все понимают.
— Так может возникнуть довольно удобная, в частности для нынешней власти, логика: если мы делаем важную реформу, а либеральная пресса и оппозиция недовольны, то надо немного закрутить гайки.
— С закручиванием гаек власть прекрасно и без таких, как я, справляется. А потом, покажите мне важные реформы?! Где они? В чем? Столько упущенных возможностей за эти годы, что выть хочется! Сколько можно было сделать!
— И тем не менее, хотя вы пишете, что 150-летие со дня рождения Столыпина вызвало столь же трогательное единение враждебных сил, что и его гибель, он явно сейчас довольно популярен. Ему поставили памятник, на который скинулся лично Путин и после него — Кудрин.
— Опять же надо уточнить — популярен в узких кругах. Вы представить не можете, сколько грязи содержится в его адрес (естественно, и в мой тоже) в комментариях после моих выступлений и текстов!
В поношении Столыпина Россия за сто лет преуспела куда больше, чем в построении правового государства, о котором он мечтал и которое декларировал как цель своих реформ.
Что касается памятника… Это свойство власти — приватизировать все, что, по ее мнению, ей на пользу, что может улучшить ее имидж по ассоциации. Во-вторых, каждая по-настоящему большая фигура вмещает в себя столько, что каждый может выбрать то, что ему близко. Они же помнят что? «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Это то, что они берут из Столыпина, и они, безусловно, в своем праве.
Я тоже за «великую Россию», но только в понимании самого Столыпина. Ведь дело в том, что он, как и Витте, великую Россию видел иначе, чем они, а именно: правовым государством, страной, где люди имеют реальные права, где они имеют полную возможность самореализации, где правительство не противник, а союзник своих граждан. При этом, естественно, страной, соответствующей своей великой истории, умеющей за себя постоять и защитить. Тут нет ни малейшего противоречия.
Витте всегда говорил: нельзя в XIX и в начале ХХ века вести политику Средних веков.
 Молебен перед отправлением 1400 полтавских крестьян-ходоков в Тобольскую и Оренбургскую губернию, 1908 год
Молебен перед отправлением 1400 полтавских крестьян-ходоков в Тобольскую и Оренбургскую губернию, 1908 год
И. Хмелевский / Wikimedia Commons
— А общество было в больше степени, чем сейчас, готово к переменам?
— Вопрос, что считать обществом и что переменами.
Народ точно был готов больше — это доказывает весь ход преобразований. Крестьяне голосовали за реформу миллионами ходатайств о землеустройстве, миллионами купленных у Крестьянского банка по льготным ценам десятин, переселением целой губернии в Азиатскую Россию, невиданным не ростом даже, а взрывом кооперации. Другая жизнь пошла у народа.
Я не раз говорил, что заняться статистикой аграрной реформы меня сподвигло желание выяснить, понять, способен ли наш народ меняться. Так вот, по крайней мере сто лет назад жители России были способны меняться к лучшему.
Меня всегда коробила эта установка: русские рабы, лодыри — и далее по списку, потому что я понимал, где корень жалоб на крестьянскую лень и плохое качество труда. Крепостное право, как и любой принудительный труд, это в принципе скверная школа трудового энтузиазма. А переформатированная в 1861 году уравнительно-передельная община создала для своих членов положение жильца в общежитии — кто будет делать евроремонт в своей комнате, зная, что в любой момент ее может занять кто-то другой?
Реформа показала, что как только человек понимает, что он живет не в общаге и не в казарме, а что он у себя дома, что это его собственная земля, то он и работать начинает иначе, и чувство собственного достоинства начинает у него просыпаться, и многое другое.
А общество… У нас иной опыт — мы старше. Не скажу, что мудрее, но старше точно — на целый страшный ХХ век. Мы тоже изломанные, но иначе.
Так что сейчас я скорее пессимист. Есть, однако, и повод для оптимизма — то, что будущего не знает никто. Откуда, например, в России, где само слово «суд» было хуже лютого мата, вдруг появляется честный суд при Александре II? Откуда эти люди берутся? И взялись же откуда-то! Причем при поддержке правительства.
— Почему тогда этот народ потом сделал или как минимум принял Февральскую революцию?
— Начнем с того, что в 1917 году у народа в целом не очень-то и спрашивали, его поставили перед фактом. Многие офицеры говорили об отречении императора — отрекся от престола, как будто эскадрон сдал.
Люди в этом плане вообще не очень логичный феномен и не одномерный. В 1762 году после Манифеста о вольности дворянской Сенат собирался Петру III памятник золотой поставить, а через четыре месяца его свергли, и, кроме поручика Семена Романовича Воронцова, никто, кажется, и не пикнул.
Теперь конкретно.
Во-первых, мы путаем проблему успешности модернизации, проблему устранения от власти Николая II и проблему возможности устроить безнаказанное мародерство, «черный передел».
Свержение царизма произошло отнюдь не на почве его экономической политики, а в первую очередь из-за его неумения, как считалось, успешно вести войну. Это как-то упускается из виду, когда задают данный вопрос.
Во-вторых, большую и значимую часть общества царь, попросту говоря, достал. То, что Николай позволил всей этой истории с женой, с Распутиным стать достоянием общественности, то, что это обсуждали даже солдаты в окопах, уронило престиж монархии до плинтуса, прежде всего среди образованных людей. И не важно, что в реальности влияние царицы и Распутина было куда меньше, чем считалось. Люди верили тому, во что хотели верить, в господство «темных сил». Не так-то просто оказалось признать истинные причины поражений, проще было свалить это на кого-то.
В-третьих
, тут есть важнейший психологический момент, который мы практически не учитываем. Массовость революции, особенно заметная с началом аграрной революции, и Гражданская война — от Владивостока до Прибалтики и Бессарабии — как бы сами собой подразумевают наличие каких-то глобальных по масштабу причин, способных всколыхнуть 150 миллионов человек.
В истории всегда и везде есть поводы и причины для недовольства и всегда есть недовольные. Эти причины как бы ждут своего часа, ждут, когда их что-то актуализирует. Вопрос в том, что
— вдруг
— включает их в действие. Почему еще вчера более или менее стабильное общество — а Россия, как и другие воюющие страны, таким и была, несмотря на войну, — вдруг превращается в арену жесточайшей борьбы?
Людям чрезвычайно трудно осознать, что громадные события, переворачивающие жизнь страны, а данном случае — человечества, планеты, могут быть следствием действий нескольких конкретных людей (последнее, окончательное решение о начале той же Первой мировой войны принимало максимум 10 человек), что не якобы Логика Истории, а цепочка причинно-следственных связей нередко (но не всегда, конечно), которые вовлекают в итоге миллионы людей, может в определенном смысле описываться стихотворением «Потому что в кузнице не было гвоздя». Лавины и камнепад могут начинаться с крика или выстрела, с мелкого камешка, потому что камешек, сдвигаясь, нарушает статус-кво — и покатилось.
Заговор Гучкова увенчался успехом, но сил они не рассчитали. Это — большая и очень грустная для нас всех история о том, как люди ошибочно считали себя умнее, чем оказались на деле. Единицы понимали, чем чревато отречение, — такие как бывший начальник московского охранного отделения Сергей Зубатов, который, узнав об отречении царя, застрелился.
Для крестьян царь, несмотря ни на что, все равно был суперсакральной фигурой. А вот его отречение дало крестьянам моральную санкцию на черный передел. В тех конкретных условиях — на безнаказанное мародерство.
— В связи со сказанным возникает проблема системного либерализма. Вот, например, вы — Витте, вы пойдете в правительство, если там кроме вас будут жандармы Трепов и Плеве, вы станете с ними работать?
— Ну, Витте с Плеве работали в правительстве вместе, хотя и не сказать, что очень плодотворно. Речь, понятно, не обо мне.
Оппозиция бывает ответственной и безответственной. Ответственная оппозиция пошла бы в правительство Столыпина, а безответственная нет. А до Столыпина Витте пытался с общественностью говорить, и тоже без успеха.
О системном либерализме. Чем отличается либерал от нелиберала? Либерал никогда не будет бросать бомбу. А те же кадеты признавали это возможным. У Петра Струве в одном из первых номеров журнала «Освобождение» прямым текстом написано: мы не будем лицемерить и скажем прямо — дело 1 марта 1881 года, то есть убийство императора Александра II, совершили святые люди. И это не мальчишка, а один из властителей дум, один из тех, кто формировал лицо партии. Об отношении кадетов к красному террору мы говорили.
 — В книге вы проводите параллели с перестройкой. После нее, в отличие от ситуации 1917 года, не было никаких репрессий против деятелей советского режима. Вам кажется такой путь более правильным, чем по крайней мере организация государственной комиссии по расследованию преступлений царской или советской власти
— В книге вы проводите параллели с перестройкой. После нее, в отличие от ситуации 1917 года, не было никаких репрессий против деятелей советского режима. Вам кажется такой путь более правильным, чем по крайней мере организация государственной комиссии по расследованию преступлений царской или советской власти?
— Все зависит от времени и места. Та комиссия, кстати, ничего толком и не нашла. А что касается преступлений советской власти, то в наших условиях это было нереально. И тут мы опять сталкиваемся с двойной моралью, доставшейся нам по наследству от дореволюционного времени.
Если бы в нашем обществе была общепризнанная система моральных и нравственных ценностей, то можно было об этом думать всерьез. А такой системы и помину нет — общество нравственно и идейно дезинтегрировано, расколото. У нас остались бесчисленные улицы и памятнику Ленину и другим коммунистическим деятелям, у нас снова говорят о памятнике Дзержинскому.
Напомню, что согласно прогнозам Менделеева, принявшего в 1906 году среднегодовой темп прироста населения в 1,5%, в 1950 году в России должно было насчитываться 282,7 миллиона человек, а к 2000 году — 594,3 миллиона.
Тэри в 1914 году, исходя из того, что за 1900–1912 годы прирост населения империи составил 26,7%, сделал вывод: если такие темпы сохранятся в будущем, то население России составит к 1948 году 343,9 миллиона человек.
На начало 1951 года в СССР жило 182,3 миллиона человек.
Надо ли спрашивать, почему наша страна не досчиталась ста миллионов человек — даже относительно осторожного прогноза Менделеева? В 1942 году в Москве Сталин сообщил Черчиллю, что коллективизация обошлась в 10 миллионов жизней.
Если представить, что эти люди встали бы вдоль железной дороги и взялись за руки, причем на каждого человека пришлось бы не более метра, то один миллион погибших занял бы расстояние в тысячу километров. Таким образом, непрерывная цепь жертв коллективизации протянулась бы от Минска до Владивостока… Однако сейчас мы наблюдаем новый взрыв любви к Сталину.
О чем здесь говорить?
— В юбилейный год даже у тех, кто особо не интересовался историей столетней давности, появилась возможность о ней задуматься, потому что эта тема стала модной. Даже если прямые аналогии бессмысленны, что-то мы можем лучше понять о себе сегодняшних, изучая тогдашнюю Россию?
— Вы правы, прямые как шпалы аналогии не работают, и слава богу! Хотя бы потому, что нет вооруженного народа, нет 10 миллионов вооруженных солдат, устроивших пугачевщину с трехлинейками, трехдюймовками и пулеметами «Максим» и «Льюис».
Что до второй части вопроса, то мне кажется, что всегда полезно знать больше о прошлом, потому что это углубляет нас самих. Вообще думать всегда полезно. Можно воспринимать историю, как случайный посетитель воспринимает музей, когда идет от одной занятной витрины или картины к другой. А когда ты кое-что уже знаешь, это совсем другое, потому что ты другой.
— При всем обилии сухих статистических данных вашу книгу никак нельзя назвать лишенной эмоций. Как формировалось ваше личное отношение к Столыпину?
— Еще когда я был в аспирантуре, замечательный историк Корнелий Федорович Шацилло рассказал мне, как Столыпин себя вел в 1905 году, во время революции, как он абсолютно никого и ничего не боялся. И когда я стал дальше что-то читать, то понял, что имею дело с благородным отпрыском благородного рода. Понятно, что человеческое отношение — это одно, а профессиональное — другое, но личное уважение всегда присутствовало.
При этом я не считаю, что Столыпин как государственный деятель безупречен, таких деятелей история, по-моему, не знает.
— Характерно, что два ваших главных героя, Витте и Столыпин, сильно друг друга не любили. А вам удалось переубедить хоть одного своего оппонента, считающего, что модернизация Витте — Столыпина была бесполезна?
— Для меня отношения Столыпина и Витте — это предмет некоторой печали, потому что я уважаю обоих. Ненависть Витте к Столыпину — это банальная ревность, ведь Столыпин, в сущности, реализовывал идеи, которые Витте пробивал годами и, что называется, головой через бетон. Витте было обидно. При этом я не уверен, что у него был тот запас воли, который был у Столыпина.
Я хорошо понимаю, что с моими оппонентами мне никогда не договориться, да я и не хочу с ними договариваться.Они впитали намертво идею о нищей России, и если человек всю жизнь писал, что Россия была отсталой и что настоящую индустриализацию устроил товарищ Сталин, то ему ничего не поможет.
А вот некоторых людей, чье мнение для меня важно, переубедить удалось. И не одного — если, конечно, они не лукавят.
























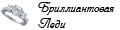
 В теме «Что вы сегодня приготовили?»: Всем добрый вечер. Давно не заходила к вам. Катастрофически не хватает времени ни на что. И те же самые магнитные бури. Галя, очень...
В теме «Что вы сегодня приготовили?»: Всем добрый вечер. Давно не заходила к вам. Катастрофически не хватает времени ни на что. И те же самые магнитные бури. Галя, очень...  В журнале «Little Scotland (Маленькая Шотландия)»:
В журнале «Little Scotland (Маленькая Шотландия)»: